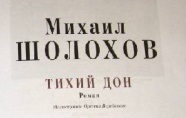«Грета Гарбо выиграла выборы», — написала одна консервативная газета, комментируя поражение Итальянской коммунистической партии на парламентских выборах 1948 г. [27, p. 26], ставшее одним из поворотных пунктов Холодной войны. Организацией широкого показа в Италии фильма «Ниночка» («Ninotchka», 1939, реж.Э. Любич) с Гарбо в главной роли активно занималось ЦРУ, хотя, казалось бы, это всего-навсего история любви западного мужчины и советской женщины (которая в результате покидает Советский Союз и остается на Западе). Уже этот факт позволяет предположить, что гендерный дискурс на киноэкране выступал в качестве эффективного оружия Холодной войны.
Цель статьи заключается в исследовании способов использования американским кинематографом образов женственности, мужественности, семейных отношений для репрезентаций СССР, для проведения символических границ между Своими и Чужими, для продуцирования социальных иерархий, внешних и внутренних. Источниками исследования стали художественные и документальные фильмы США периода так называемых долгих пятидесятых (1946—1963), который часто обозначается как первая Холодная война.
Гендерный дискурс как оружие Холодной войны
Как в период Холодной войны создавался образ советского врага?
Прежде всего, отмечу, что Враг может быть рассмотрен как социальный конструкт [6, p. 26]; его образ определяется не только реальными качествами соперничающей стороны, но и его функциями, среди которых, во-первых, поддержание идентичности социального субъекта за счет четкого отделения Чужих от Своих; во-вторых, обоснование собственного превосходства (военного, нравственного, эстетического), что призвано способствовать победе над Врагом; в-третьих, упрочение внутреннего порядка и проведение символических границ в собственном социуме.
Отмеченные функции этого образа обусловливают его свойства. Он должен порождать чувство опасности. Эффективно сконструированный образ врага, далее, вызывает убежденность в моральной правоте Своих и неправоте Чужих. Гнев, отвращение, безжалостность — еще один кластер чувств, которые должен вызывать данный образ; это предполагает использование такого приема, как дегуманизация врага. Наконец, Враг должен быть изображен достаточно слабым и комичным, чтобы Своих не покидала уверенность в том, что их победа неизбежна (напр.: [15, p. 182—185; 19; 17]). Эти черты Врага обеспечиваются различными способами, среди которых использование гендерного дискурса.
Анализируя историю Холодной войны, С. Энлоэ заметила, что послевоенная конфронтация представляла собой множество поединков за определение маскулинности и фемининности [14, p. 18—19]. Действительно, гендерный дискурс был полем жесткой борьбы, когда аудитории навязывались представления о том, какие модели мужского и женского поведения являются эталонными, а какие — девиантными.
Образы мужчин и женщин служат эффективными «символическими пограничниками», выступая в качестве маркеров включения и исключения, принимая участие в формировании коллективной идентичности, в отделении Своих от Чужих и в оценивании первых выше, чем вторых [30, p. 23].
Другим фактором, обусловливающим интерес военной пропаганды к гендерному дискурсу, служит его связь с отношениями власти и подчинения. Иерархические отношения между полами и внутри полов используются в качестве своеобразной матрицы, легитимирующей иные виды социального неравенства. Именно благодаря вовлечению гендерного дискурса во властные отношения он становится неотъемлемой частью военного конфликта и насилия в целом.
Характеризуя специфику восприятия СССР в период Холодной войны, отмечу, что разделение мира между двумя полюсами продуцировало манихейское мироощущение, в котором каждый для другого был Врагом № 1. Идентичность Америки с середины 1940-х гг. в значительной степени определялась ее ролью последнего оплота в борьбе с «мировым злом»: противостояние коммунистической России рассматривалось как главная историческая миссия [26, p. 73]. Конструкция тотальной инаковости коммунизма представляла собой одновременно создание идеализированного образа самих Соединенных Штатов [26, p. 29].
Пропаганда стремилась представить гендерный порядок Врага № 1, во-первых, как диаметрально противоположный собственному, во-вторых, как противный человеческой природе, в-третьих, как закономерное и неизбежное порождение противоестественного социально-политического порядка. Помимо критики социализма, американская пропаганда в репрезентациях СССР опиралась на традиции западного дискурса о России. Советскость при этом фактически отождествлялась с русскостью, а коммунизм портретировался как идеология, русская по самой своей сути [26, p. 134].
Голливуд в Холодной войне
Холодная война стала уникальным событием в мировой истории во многом благодаря огромной роли культуры. По оценке Р. Скотта, в мире риторики Холодной войны вся наука была военной и все искусство — пропагандой [25, p. 12]. Кино было «важнейшим из искусств» не только в СССР [20]: объединяя три вида пропаганды (производство образа, рассказа и звука), кинематограф становится эффективнейшим способом идеологической конфронтации и в США. Как отмечает Т. Шоу, Голливуд, не будучи, конечно, правительственной организацией, не был и не зависимым от правительства. Эта зависимость проявлялась в том, что органы государственной пропаганды оказывали поддержку одним фильмам и лишали ее других, часто сотрудничая при этом с неправительственными организациями, такими как Администрация производственного кодекса (Production Code Administration). В иных случаях ФБР, ЦРУ и Информационное агентство США финансировали фильмы, продюсировали их и обеспечивали их распространение. Наконец, иногда государство просто использовало нужные фильмы, которые были сняты без его вмешательства — как произошло с «Ниночкой». В результате всех этих факторов американские фильмы и отражали, и распространяли идеологию Холодной войны, сознательно или бессознательно [27, p. 303].
В производство кинематографического образа «Империи Зла» были вовлечены ведущие режиссеры, актеры и сценаристы, достаточно упомянуть А. Хичкока и С. Кубрика, Б. Уайлдера и И. Бергман, К. Гранта и Ф. Синатру (подробнее см.: [28]). По оценке А. Федорова, Голливуд выпустил за исследуемый период около 90 фильмов, которые были непосредственно посвящены событиям Холодной войны и образу СССР [4]. Вклад в идеологическую конфронтацию вносили и картины других жанров. Например, огромный успех жанра вестернов в 1950-х был бы невозможен, если бы культивируемый им образ одинокого самодостаточного ковбоя не использовался в качестве символа американского индивидуализма, спасающего цивилизованный мир Запада от советской идеологии тоталитаризма... [27, p. 50].
Женственность
Женский вопрос занимал важное место в идеологической конфронтации Холодной войны. Те черты советского гендерного порядка, которые пропаганда СССР трактовала как проявление преимуществ социалистической системы, американские пропагандисты стремились представить в качестве пороков. Они утверждали, что равенство полов — это лишь лозунг советской пропаганды: «Советские женщины были вызволены из рабства у собственных мужей лишь затем, чтобы попасть в рабство к государству» [9, p. 121]. Такого рода «равенство» использовалось к тому же как свидетельство отсталости: «Информационное агентство США (ЮСИА) утверждало, что только женщины экономически отсталых наций ценят карьеру выше материнства» [8, p. 123]. Кроме того, тезис о противоестественности социализма, уничтожающего частную собственность, пропаганда иллюстрировала картинами деформации «естественных» отношений между полами, которые уничтожают «нормальные» женственность и мужественность.
Примером дефеминизации женщин служит статья 1954 г. из журнала «Лук» под названием «Женщины — граждане России второго сорта». Автор, журналистка Дж. Уитни, соглашается с тем, что многие русские женщины получают хорошее образование и становятся докторами, учителями, инженерами, учеными, партийными работниками [31, p. 115]. Иными словами, женщина в России может быть кем угодно — вот только женщиной она быть не может. Нигде в мире женская красота не ценится так низко; излишне и говорить, что не существует конкурса «Мисс СССР», сокрушается автор и продолжает: «Даже сегодня в относительно космополитичной Москве девушка, которая хорошо выглядит, прилично одевается и пользуется косметикой, для обычного русского означает одно из трех: либо иностранка, либо балерина, либо проститутка» (31, p. 116). Как же выглядит обычная русская женщина? Она среднего телосложения, темноволосая, круглолицая, коренастая. Автор уверяет читателей, что для большинства русских размеры тела женщины — индикатор социального положения ее мужа: чем его работа лучше, тем его жена упитаннее и дороднее.
В кинематографе тема деформации женственности в СССР стала центральной в репрезентациях женщин. Главная героиня фильма «Железная юбка» («The Iron Petticoat», 1956, реж. Р. Томас), летчица Винка Коваленко, является горячей сторонницей идеи женского равенства в советском стиле. «Она на 98 % русская и на 2 % женщина» — так характеризует ее майор американских ВВС Чарльз (Чак) Локвуд. Винка с легкостью опрокидывает одну рюмку водки за другой (ил.1), поражая воображение американских военных.
Другим способом подчеркнуть мужеподобность советских женщин были репрезентации их телесности. Майор Локвуд, легко побеждающий в единоборствах советских агентов мужского пола, оказывается поверженным агентом-женщиной, что неудивительно, если принять во внимание ее богатырскую стать (ил.2). Разумеется, голливудские звезды, играющие роли советских женщин (в числе которых Дж. Ли, К. Хепберн, С. Чаррис, Г. Гарбо), едва ли могли позволить себе выглядеть чрезмерно непривлекательными, поэтому в фильмах больше говорят о неженственных фигурах русских, чем показывают их. Советский чиновник из фильма «Один, два, три» («One, Two, Three», 1961, реж. Б. Уайлдер) признается, что не видит ничего странного в том, что американцы не интересуются русскими секретаршами: их внешность напоминает ему самовар.
Спортивные успехи советских женщин расцениваются как свидетельство утраты ими женственности; так, в фильме «13 напуганных девочек» («13 Frightened Girls», 1963, реж. У. Кастл) окарикатуриваются спортивные амбиции Наташи, юной дочери советского дипломата.
Примечателен диалог между Наташей и американкой Кэнди, главной героиней фильма:
Наташа. Я хочу поиграть с тобой в теннис.
Кэнди. А зачем? Ты же всегда выигрываешь!
Наташа. Ну и что? Это же тренировка! Советская женщина учится быть равной с мужчинами во всем!
Кэнди. В моей стране женщина всегда остается женщиной. Мужчины должны восхищаться нами.
Наташа. Американский юмор?
Излишне говорить, что образцом женской красоты считаются американки. К примеру, в статье 1956 г. повествуется о визите в Айову советских крестьян, которые, по заверениям автора рассказа, были поражены изобилием товаров в магазинах и красивыми грудями американок (см.: [26, p. 101]), — пресуппозиции такого рода суждений очевидны. Неотразимость женщин «свободного мира» потрясает воображение и других советских мужчин. В фильме «Один, два, три» партийный функционер говорит: «Одно нужно признать за этими капиталистами: они умеют сделать женщину привлекательной».
Предметом насмешек становятся советская мода, косметика и особенно белье. «Ридерс Дайджест» оценивает женское белье в СССР как «грубое и скучное» (см.: [26, p. 119]). Притягательность же американского белья настолько велика, что, например, героини фильмов «Шелковые чулки» («Silk Stockings», 1957) и «Пилот реактивного самолета» («Jet Pilot», 1957, реж. Дж. фон Штернберг), Нина и Ольга, не могут устоять перед соблазном и быстренько забывают о своих коммунистических иллюзиях. Белье становится символом капиталистического изобилия (и, разумеется, свободы).
Несомненно, такого рода сюжеты выступали важным элементом гендерного дискурса в самих США, убеждая аудиторию, что женщина всегда остается женщиной, которая хочет быть сексуально привлекательной и ценит личное счастье выше идеологических принципов. И не вина, а беда русских женщин, что они не имеют возможности быть женственными; причина этого заключается в невысоком качестве не только товаров и услуг, но и советской маскулинности. Эталон маскулинности — это воин Холодной войны (Cold warrior), коммунизм же ассоциируется с феминизацией [11, p. 1— 21; 29, p. 55]. Поскольку, как было отмечено, гендер используется для обозначения доминирования, постольку феминизация Врага и маскулинизация Своих — обычный прием военной пропаганды [12, 16]. Это получает отражение, в частности, в широком использовании сексуальных образов и метафор в дискурсе Холодной войны [21, p. 98; 3, p. 206—208].
В кинематографе и беллетристике способом символической феминизации Врага стали «лав сториз», в которых Он — достойный представитель «свободного мира», Она принадлежит к миру «красной угрозы». В данном случае акцентируется уже не асексуальность коммунистической женственности, а сексапильность русских женщин. Канон был создан в фильме «Ниночка», построенном на противопоставлении советской маскулинности и маскулинности западной, благодаря которой партийный функционер Нина Якушева смогла снова стать «нормальной женщиной» (заметим, что за несколько лет до этой картины вышел фильм Г. Александрова «Цирк» (1936), в котором также отдавалась дань этому желанию представить противника в облике прекрасной женщины). Успех «Ниночки» обеспечил дальнейший интерес Голливуда к подобным сюжетам. В 1940 г. появляется «Товарищ Икс» («Comrade X», реж. К. Видор), где, как и в «Ниночке», героиня покидает Советский Союз во имя любви к американскому журналисту, герою К. Гэйбла.
М. Рогин, анализируя сюжеты голливудских картин, отметил, что в лентах периода Второй мировой войны (например, «Песня о России» («Song of Russia», 1943, реж. Г. Ратофф) сюжет претерпевает изменения. Русские женщины по-прежнему влюбляются в американцев, однако остаются в своей стране, что было призвано проиллюстрировать силу патриотических чувств союзника Соединенных Штатов [24, p. 246—248].
С началом Холодной войны кинематограф возвращается к прежнему сюжету в таких картинах, как «Не отпускай меня» («Never Let Me Go», 1953, реж. Д. Дэйвс) (ил. 3), «Шелковые чулки», «Железная юбка» и «Пилот реактивного самолета». Наконец, британский фильм «Из России с любовью» («From Russia with Love», 1963, реж. Т. Янг) стал, пожалуй, наиболее известным примером в этом ряду: ради любви Джеймса Бонда советский агент Татьяна Романова пренебрегает служебным долгом и бежит на Запад.
Мужественность
Очевидно, такой выбор героинь определялся не только преимуществами капиталистической системы над социалистической, но и превосходством западной маскулинности над советской.
Это неудивительно: кровожадные комиссары, беспринципные и вороватые чиновники, безжалостные шпионы, туповатые военные, забитые обыватели — вот основные типы советских мужчин (ил. 4).
Западные мужчины превосходят советских во всем: от умения драться до светских манер. К тому же они богаты... Неполноценность советской маскулинности обнаруживает себя и в сценах соперничества за сердце женщины. Так, в «Железной юбке» за любовь Винки соревнуются майор Локвуд и советский инженер Иван Кропоткин. Достоинство, мужество и обаяние первого противопоставлены низости, непривлекательности и трусости второго. Символическая демаскулинизация Ивана осуществляется при помощи различных приемов: его одевают в женскую ночную сорочку, он падает в обморок на колени любимой и т. д.
Демаскулинизация Врага была заметной, но не единственной тенденцией антикоммунистического дискурса. Многогранность образа врага, разнообразие выполняемых им функций обусловили вариативность приемов, избираемых для его репрезентаций. Он должен внушать страх — поэтому коммунизм изображался как смертельная угроза, в том числе при помощи гендерного дискурса. Враг наделяется гипермаскулинными чертами, будучи представленным, в частности, в качестве «сексуального агрессора» [13, p. 1310].
Как известно, мобилизация нации, в первую очередь мужчин, при помощи создания картин страданий женщин, их унижения, бесчестья или сексуального насилия над ними представляет собой один из распространенных приемов
военной пропаганды и дискурсивных стратегий конструирования Врага (см.: [2]). Фигура мужчины-насильника использовалась в комиксах и беллетристике (ил.5) [7, p. 153, 159].
«Изнасилование» — популярная метафора для репрезентаций внешней политики коммунистического Другого в отношении, например, Польши и Чехословакии [26,p. 193;22; 10]. Голливуд отдал дань этой теме в фильме «Вторжение в США» («Invasion, USA», 1952, реж. А.Грин), в котором показана полномасштабная агрессия коммунистического врага. Главная героиня предпочитает смерть перспективе быть изнасилованной пьяным солдатом.