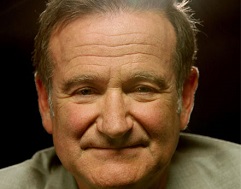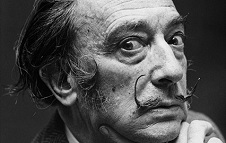Цельность фильма Темура Баблуани связана прежде чего с тем, что он создан художником, выстрадавшим определенность своей жизненной позиции, рассказывает он о цельных людях, не желающих, да и не способных делить свою личность части, но отдающих себя полностью. Отдающих чему? Вот в чем вопрос...
Фильм «забирает» зрителя конкретностью и подлинностью фактуры. Он заставляет поверить в него, как в жизненный факт. Между тем, картина , предстающая на экране, во многом неожиданна и не типична для грузинского кино. Где увитые виноградом, наполненные теплым бытом тбилисские дворы? {…} Где улицы, заполненные беспечной фланирующей толпой? На экране пустые, замусоренные улицы, {…} , тяжелый и скудный быт, спят одетыми, воду держат в ведрах, когда хлеб с маслом — уже роскошь... Жизнь оттеснена на окраины, на пустыри, в трущобы. В полутемном, полупустом трамвае какой-то пьяный горланит по-русски: «На бой кровавый... марш-марш вперед, рабочий народ!» Но и без залетевшей сюда из дали времен «Варшавянки» постсоветский Тбилиси живет в атмосфере ненависти и разора. Лишь однажды в одном дворе зазвучит старая тихая мелодия, затанцует под музыку девочка — и снова все смолкнет...
Словно смерч прошел над городом, словно землетрясение ударило по нему... Что же случилось? Мы-то знаем, что,— и Баблуани знает. Но не станет показывать разбитые снарядами дома на проспекте Руставели. Он расскажет о другом: как злоба, ненависть и насилие постепенно пропитывают повседневную жизнь, исподволь готовя общую трагедию. Как в милиции избивают отца на глазах у сына. Как подкупают и растлевают. Как еще не достигшие совершеннолетия ребята носятся с револьверами и автоматами и сноровисто, деловито готовятся убивать. Нет, Баблуани (в отличие от многих других кинематографистов) не пугает нас апокалиптическими картинами. Все, что он показывает, происходит в рамках нормальной жизни,— якобы нормальной... Страшны ведь не эксцессы. Злоба и ненависть, становящиеся нормой,— вот что страшно. А доброта воспринимается как чудачество, как неполноценность...
Вот мы и подошли к образам двух протагонистов — отца и сына. Начнем со второго, Дато, как его играет молодой актер Д. Казашвили. Я бы сказал, что главный пластический мотив этого образа — порабощенность ненавистью. Не в словах и в декларациях, а в пластике и в поступках: угрюмый настороженный взгляд исподлобья, лицо без улыбки, рот время от времени искривляет гримаса злобы, корпус наклонен вперед, чуть согнутые ноги пружинят — готов к прыжку... Руки живут своей особой жизнью, пальцы выразительны, артистичны (это запомним!), но в любой момент готовы сжаться в кулак. Дато знает, что в мире правит зло, а потому на удар надо отвечать ударом — нет, не одним, а десятью ударами! А еще лучше — бить первым...
Нет, Баблуани не сетует по поводу того, что общество растлилось — сетовать поздно. Он имеет дело уже с результатом этого процесса. Смешно рассчитывать на защиту закона, зло и подлость везде — ив милиции, и в прокуратуре, и в больнице, и на улице... И дело здесь не в отдельных людях... Ну, а раз так, раз правды и защиты искать не у кого,— защити себя сам, сделай так, чтобы тебя боялись! Так думает Дато, «крутой парень», так думают и его товарищи, сбившиеся в волчью стаю. Поэтому и стирается грань между простыми рабочими парнями и уголовниками, между уголовниками — и милицией, между законностью и мафией. {…}
Это только отец Дато, наивный доктор Бенделиани, может удивляться, что в КПЗ попали сыновья известного академика, директора института, и папаша приходит их вызволять, видимо, уже не в первый раз. Дато знает больше отца-идеалиста и ничему не удивляется. Пусть отец возмущается, негодует или прощает — он, Дато, действует иначе: он просто берет автомат и идет убивать обидчика...
На смену органическому единству уличной толпы, соседей по двору, семьи приходит то, что Б. Брехт называл «дурным коллективом»,— стая, банда... Грань между ними может быть нечеткой, опасно зыбкой, и в фильме чувствуется эта тревожная неустойчивость. Банда Давида (куда входит и Дато) отчасти воспроизводит патриархальные взаимоотношения семьи, клана: внутренняя сплоченность, верность по отношению к «своим» — и агрессивная готовность вступить в схватку с «чужими»... Настораживает легкость, с которой эти парни превращаются в наемников для расправы с безразличным им человеком, как настораживает и легко просыпающаяся в них неконтролируемая жестокость: начав драку или избиение, он не могут остановиться...
В «Солнце неспящих» экранная стилистика делает крен в сторону американского триллера. Но дело здесь не в погоне за модой. Стилевой сдвиг предопределен самим жизненным материалом, психологией молодых героев: это они своими замашками копируют «крутых парней» американского экрана. {…}
Тбилисский паренек становится рядом с киноплакатом «Рембо» в соответствующей позе, пистолет наизготовку. «Похож?» — спрашивает он при этом. Мог бы и не спрашивать: и так все ясно относительно «комплексов» таких вот ребят (да и некоторых кинорежиссеров тоже). Стремление подделаться под некий образец как результат отсутствия собственной индивидуальности — один из существенных мотивов фильма. Но он остается на втором плане. Режиссер жертвует им ради других, еще более важных. Что же самое важное в фильме? Это — поиски героями опоры внутри себя, дабы противостоять злу, ненависти, обесчеловечиванию. Назовем эту точку опоры совестью, добротой, нравственностью, «солнцем бодрствующих» или как-то иначе — неважно. Важно то, что она составляет ядро личности, сохраняющее ее от распыления и уподобления чуждому. Каждому человеку такая точка дана изначально. Но чтобы найти, нащупать ее, необходимо время, порой целая жизнь. Иногда жизни может и не хватить... Доктор Гела Бенделиани эту точку нашел, и, при всей мягкости его характера, сбить его уже невозможно. Актер Э. Бурдули своими, актерскими средствами выражает это сочетание мягкости и упорства, примиренности и непримиримости. И актер, и режиссер душой и сердцем со своим героем.
Баблуани выступает как моралист и не скрывает этого, проявляя тем самым независимость и мужество. Да, в наши дни необходимо мужество, чтобы открыто заявить себя приверженцем морали. {…}
Многое, очень многое перемешано в Дато. Он находится на перепутье. И еще неясно, по какой дороге он пойдет. Ясно одно: выбрав дорогу, он пойдет по ней до конца...
Внешний, «чужой» мир тоже неоднороден, в нем также существуют разные потенции развития, различные зоны отчуждения и отдельные островки человечности, задавленной, затаившейся, но еще не убитой окончательно. Вспомним еще раз музыку, так странно и неожиданно вдруг зазвучавшую во дворе. Вспомним уличную сцену, с которой начинается фильм, когда заинтересованная и сочувствующая толпа собирается вокруг потерявшейся старушки. Эта сцена приобретает свой смысл ретроспективно, в контексте всего последующего. В ней раскрывается еще не уничтоженный (может быть, неуничтожимый?) потенциал сочувствия и взаимопомощи. Правда, и здесь все отнюдь не идиллично. Так же легко, как собрались, люди могут и разойтись, оставить старую женщину посреди улицы... Может быть, так и случилось бы, не окажись в толпе доктор Бенделиани, претворяющий общее сочувствие в конкретное действие: он пойдет разыскивать брата старухи и, не разыскав, поселит ее у себя в доме — лишний рот, когда кругом нищета. И ни слова возражения, ни одного косого взгляда со стороны жены и детей!
Семья Гелы Бенделиани — это «молекула» человечности, естественной порядочности. Распадется эта «молекула» — распадется и все общество, нация, страна. Все на тонкой ниточке подвешено. В фильме эта ниточка — взаимоотношения отца и сына. За конкретными, локальными жизненными ситуациями в фильме Баблуани присутствует исторический и моральный «второй план»: бытовые факты, бытовые реалии укрупняются, проецируясь на невидимый экран вторых смыслов, и происходит это без символов и сложных метафор, исключительно за счет непрерывности и насыщенности самой материи жизни.
«Солнце неспящих» (а «неспящие», как я понимаю,— это те, кто бодрствует духовно, в ком не уснула совесть) ставит вопрос о значении нравственных ориентиров в кризисный момент развития общества. Проблемы, мучающие автора и его героев, касаются не только Грузии. И это — еще одно подтверждение общности, взаимосвязанности наших исторических судеб.
В подлинном произведении искусства носителем смысла является сама художественная ткань, ее структура и самоорганизация на «клеточном уровне». У Баблуани закон такого построения — непрерывность жизни во времени и пространстве. Источник трагизма — в том, что такое единство находится под угрозой разрыва, уничтожения. Безличные силы работают на разрыв поколений (поэтому так важна в фильме тема семьи, взаимоотношений между отцом и сыном, и здесь проходит ось времени). И они же разбрасывают, распыляют людей в пространстве, заставляют забиваться в свои дома, квартиры, норы, разделяют их темными, опасными улицами, пустыми дворами, необжитыми пустырями, тюремной решеткой… Два начала, две силы присутствуют и борются в фильме: сила добра сближает и примиряет, сила зла ожесточает и разбрасывает. {…}
Сразу за историей потерявшейся старушки идет контрастный эпизод в милиции, где в яростном психологическом поединке сталкиваются Дато и его главный антагонист, милицейский надзиратель. И у того, и у другого потенциал ненависти сразу взлетает к самой высокой отметке. И знает, куда завела бы эта ненависть Дато, если бы не отец...
К судьбе доктора Бенделиани можно отнестись по-разному. Можно увидеть в нем неудачника: имел врачебный талант, был «самым высоким» на курсе, но себя не реализовал, успеха не добился, всю жизнь отдал эфемерной идее, да и умер нелепо — без всякой необходимости стал сам себе делать операцию, не позаботившись даже о толковой медсестре...
Но совершенно очевидно, что не так смотрит на своего героя создатель картины. Для Баблуани жизнь Гелы оправдана верностью себе и служением людям. А раз так, то при всех внешних признаках неудачника он победитель, пусть даже его победа оказывается посмертной. Симпатичная крыса по кличке Пеле, живая и здоровая, самолично вылезает из сточного желоба, чтобы засвидетельствовать успех эксперимента, которому Гела посвятил всю жизнь.
С моей, вполне, впрочем, субъективной, точки зрения, Пеле можно было и не беспокоить. Для того чтобы считать жизнь доктора Бенделиани оправданной, мне совсем не обязательно знать, что его способ лечения рака оказался успешным. Практический успех или неудача здесь ничего не решают в моральном плане. Устремленность к благу людей, самоотверженная доброта, готовность к самопожертвованию — вот что в данном случае важно. Герой фильма прожил жизнь не напрасно не потому, что удался его медицинский эксперимент, а потому, что ему удалось передать сыну толику своей доброты, и эта «прививка человечности» спасла Дато от рака души — от ненависти, разъедающей личность, подобно злокачественной опухоли. {…}
Виктор Божович
Фрагменты рецензии «Исцеление от ненависти»
«Искусство кино» № 4, 1993 год