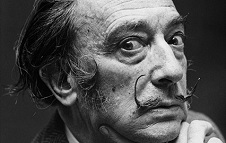Это было давно, очень давно в самом конце семидедесятых, «Саят-Нова» уже был снят и осужден и с трудом принят после великодушных переделок С. Юткевича под названием «Цвет граната». Как я теперь понимаю, поправки банализировали замечательный фильм.
Впереди у Параджанова лежали трудные годы, с озверением окружающих и бывших коллег, с судом, с лагерем, под протесты мировой прогрессивной общественности. Он, слава Богу, не догадывался об этом и был настроен необыкновенно жизнерадостно. Обстоятельства со всех сторон складывались весьма скверно, а он по роковому своему благодушию считал, что маятник его судьбы достиг низшей точки и теперь наверняка будет подниматься все выше и выше. Как раз в эти дни, несколько ранее, он дал телеграмму: «МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ ПОСКОЛЬКУ Я ЯВЛЯЮСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ БЕЗРАБОТНЫМ КИНОРЕЖИССЕРОМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ОТПУСТИТЬ МЕНЯ В ГОЛОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ СОВЕТСКО-ИРАНСКУЮ ГРАНИЦУ ВОЗМОЖНО Я СТАНУ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ ИРАНСКОГО КИНО ПАРАДЖАНОВ». Косыгин ему не ответил, но, разумеется, последовал гневный звонок: что там у вас творится, какие безработные, какая граница, разобраться и доложить! После чего какой-то небесно-вежливый человек из горкома несколько раз беседовал с ним, стараясь досконально выяснить, чем же он в особенности недоволен. Параджанов держался деревенщиной.
— Чем недоволен? Всем доволен. Сценарии мои не ставят, вот чем недоволен.
Тогда же доброхоты устроили ему визит в самый главный кабинет всеукраинского значения. Хмуро, не поднимая глаз от бумаг, хозяин кабинета спросил:
— Ну? С чем вы пришли?
— С нежностью,— ответил Параджанов и похлопал ресницами безмятежных глаз.
Хозяин кабинета отложил бумагу и поднял взгляд.
— Это еще почему?
— Потому что ручка на вашей двери выполнена в форме лиры. Это означает, что вы близкий искусству человек. А художник всегда поймет художника.
Хозяин кабинета снял очки и прогулялся к дверной ручке. Она была бронзовая, под старину и стилизованно повторяла лиру.
— Ну и ну,— сказал хозяин.— Я здесь сижу столько лет и не успел рассмотреть...
После чего, по рассказу Параджанова, он значительно потеплел и на прощание пообещал лично позвонить на киностудию.
Впрочем, по другому варианту того же рассказа речь у них зашла вовсе не о ручке-лире, а об ондатровых шапках в гардеробе, одна к одной. Параджанов спросил: это что, по предписанию, вроде униформы? Хозяин сначала не понял, потом долго смеялся, удивлялся зоркости взгляда у художников и на прощание, сказав: «А я и не знал, что вы такой красивый человек»,— пообещал свою твердую помощь, вплоть до личного звонка на студию.
Прошел месяц, второй. Обстановка не разрядилась. Получалось, что хозяин кабинета, какие уж там у него ручки, не знаю, не выполнил обещания. Да и было ли оно? Да и была ли беседа?
Параджанов был невысок, но производил могучее впечатление. Весь заросший бородой, в черной рубахе двигался по своей квартире, расставлял тарелки, стопки, резал помидоры и огурцы, сыр, дыню, все сразу, показывал молодым ребятам, постоянно окружавшим его ученикам, как в возрожденческие времена, что и откуда следует извлечь, что промыть, что водрузить в самом центре... И при этом он ни на минуту не закрывал рта. И мы не закрывали своих отвисших челюстей, потому что истории сыпались одна другой занимательнее.
Вчера у него был милиционер. Дело в том, что окна его четвертого этажа выходят в переулок, ведущий к Крещатику. Под его балконом собираются колонны демонстрантов, перед тем как выйти в центр. Дождавшись, когда нужное место займут люди со Студии имени Довженко, Параджанов принимался выбивать пыль из ковров. Если пыли было мало, поясняет он, он посыпал ковер пудрой. Пудра хорошо летит на раннем солнце...
— Но милиционер тут при чем? — спросили мы.
А вечерами тот же балкон преображался. Ставились два очень сильных студийных прожектора, и в пересечении их лучей возникал белый гипсовый скульптурный портрет. С земли черты лица разобрать было трудно, но ясно было, что это не член Политбюро. Соседи заявили, что здесь по праздникам пропагандируется неизвестный враг народа. Милиционер, козырнув, хотел узнать, на что идет народная электроэнергия.
— Вот вы, товарищ, кого вы освещаете по ночам?
— Себя,— отвечал Параджанов.— Это автопортрет.
— А зачем? Вы что, сами себя любите?
— Люблю,— сказал Параджанов.— Автопортрет я люблю. Он мне удался. А что? Нельзя держать свой собственный бюст на балконе?
— Можно,— сказал милиционер, но вкрадчиво попросил не освещать бюст прожекторами, а то соседи опять сообщат.
Комната, в которой мы сидели, уже годилась в музей. Под большим зеркалом, в овальной изысканной раме (раму сделал сам Параджанов), лежали на полочке письмо Феллини и черновик ответа Параджанова — коллаж из фотографий и кинокадров. Здесь же покоился цветной снимок удивительной шубы, сшитой самолично Параджановым,— он подарил ее месяц назад Ольбрыхскому, бывшему в Киеве проездом. На стене висело множество рисунков, под стеклом и в рамочках, а выше всех, почти под потолком, помещался белый плетеный стул. Видны были буквы на изнанке сиденья— «А.Д.». Параджанов их расшифровал как «Анничков дворец» и уверял, что самолично совершил кражу.
Я оказался здесь в меру случайно, за компанию. В Киеве проходил семинар по проблемам телевидения, заседание кончилось рано, кто-то предложил, не заглянуть ли к Параджанову, тот будет рад. Положим, прежде всего он был озадачен, на какую-то четверть секунды. И уже целовался с кем-то и кого-то бил по плечам, а знакомясь, не переходил на скороговорку, а внимательно заглядывал тебе в глаза: ну-ка, кто ты? Не стукача ли привели в мой дом? Опасение, как позже выяснилось, вполне основательное.
Он тут же выдвинул на середину огромный раздвижной стол, исчез на минутку к соседям, поговорил с кем-то по телефону («Тут ребята ко мне зашли, у них семинар телевизора»), нисколько не выключаясь из наших разговоров, а все время руководя ими.
От его подвижности, от очень громкого, прекрасно поставленного голоса я несколько оторопел, тем более что в какой-то момент, нарезая зелень, он мимолетно сообщил мне:
— Похожи на Мордвинова. Вы сценарист?
— Критик.
— Самая ненужная профессия.
И вот подъехали две бутыли замечательного молдавского вина, и вот появилась корзина с разнокалиберными бутылочками, и подошли еще какие-то люди, большей частью очень молодые. И уже похоже было, что мы век знакомы и расставаться теперь не собираемся. Кивнув на какого-то зеленого юнца с утонченным профилем и экзотической, старомодной бородкой, Параджанов сказал мне негромко:
— Красив, чертенок? Дюрер! А я этого Дюрера — учу фотографировать. Талантлив как Бог!
Если я не путаю, то именно Дюрер фигурировал на будущем процессе.
Пили только вино, чинно, тост за тостом, хозяин дома царил в беседе, его хватало на всех, уже прошла и десятая, и двадцатая история из его хорошо отработанного репертуара, как вдруг он сказал:
— Критик, вам это будет интересно. Вы знаете, как я не получил Ленинскую премию?
— А вы были близки? — удивился я.
Начал он скромно: год или два назад, когда вновь решался вопрос о постановке «Исповеди», решался, да так и не решился, вдруг приходит телеграмма из Москвы: «СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА ГОД КАК ЖИЗНЬ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРОБЫ РОЛЬ КАРЛА МАРКСА ТЧК ЖДУ НЕТЕРПЕНИЕМ ГРИГОРИЙ РОШАЛЬ».
— Мне как раз надо было в Москву, Лиля Брик звала повидаться. О том, чтобы играть Маркса, я, разумеется, не думал всерьез. Но на студию зашел, пофланировал по комнатам между сценарным отделом и бухгалтерией, каждому показал телеграмму — знай, мол, наших! И поехал. Встречают, с поезда везут на студию, Григорий Львович, мой мастер по ВГИКу, говорит: «Ну и замечательно, ну, и чудесно! Не сомневаюсь, что роль у тебя получится, никто не знает, какой ты исключительный артист!» Оказывается, он запомнил, как еще на первом курсе на занятиях по гриму я попробовал на себе грим Маркса...
Рука лезет в ящик стола. Все всегда на месте и извлекается в нужную минуту. Сочная фотография 9x12: мальчишка, явный армянин, в знаменитой бороде и с большими накладными бровями.
— Я говорю: «Григорий Львович, а не боитесь вы, что у отца мирового пролетариата будет слегка армянский оттенок? Консультанты что скажут?» Он говорит: «Скажи, какой оттенок предпочтительнее? И потом — я видел скульптуру Ленина, которую нам подарили китайские товарищи, — Ленин там абсолютный китаец. Кто как видит, тот так и делает, к этому привыкли».
Тут я ему не очень поверил, но спорить не стал. «Зато,— говорит он,— у нас по драматургии принципиально иной подход. Никакого молитвенного отношения! Никакой иконы! Веселый, умный, ироничный человек, весь земной, из мяса и крови, с бурлящей бунтарской энергией в жилах!.. Ты понимаешь, Сережа, что это такое?» Я говорю: «Да, понимаю. Это Ленинская премия». Старик смутился, развел руками: «Ну, заранее так не говорят, не принято. Однако фильм не может пройти бесследно, а уж исполнитель главной роли...» Тут я задумался. Дело в том, что с некоторых пор у меня с Марксом сложились очень близкие отношения.
Повелительным движением руки нас поднимают с мест и устремляют на балкон полюбоваться противоположным многоэтажным домом.
— Перед каждым праздником, за неделю до демонстрации, я просыпаюсь по утрам под крики: «К цирку, к цирку!.. К «Большевику», к «Большевику»!..»
Сейчас я привык, а раньше пугался, спросонья выбегал на балкон. Что происходит? А ничего особенного — ставят портреты основоположников. На большую раму, под три этажа высотой, натягивают холст. Тянут две группы, некто командует. Цирк от меня расположен слева, а фабрика «Большевик» справа.
Он показал, как подслеповатый, доверчивый, ничего не понимающий Маркс в рывках и подергиваниях вырастает над собой. Это было очень смешно.
— Я им кричу: «Вы что же делаете! Прекратите издевательства! Уже одного еврея распяли, так нам две тыщи лет покоя нет!» Смотрят на меня как на идиота, пожимают плечами и снова за свое: «К цирку, к цирку! К «Большевику», к «Большевику»!»
Тот же повелительный жест возвращает нас в комнаты.
— И для меня начинаются блаженные дни,— с улыбкой счастья повествует Параджанов — Все-таки я не один. Читаешь или пишешь, а все время тянет поглядеть: как там Маркс, отец мирового пролетариата? Даже среди ночи выходил поглядеть, ей-богу. И бывали, вы знаете, такие картины... Вдруг у Карлуши вспыхивает правый глаз. Загорелся, будто в ярости. Это кто-то из тамошних обитателей пошел в уборную, свет зажег. Или — батеньки, что это? Что-то тяжелое, медленное, с жужжанием поднимается у него внутри, выше, выше, выше, доходит до горла, опадает... Полное впечатление, что человеку нехорошо. А это лифт, открытый с улицы, и освещенная кабина... Я без этого не могу, я сюрреалист, и все эти подробности подмечаю. Однажды среди ночи слышу: дождь, да какой, прямо ливень! Утром первая мысль: как Карлуша? Бегу в трусах... Ни черта себе! Нету моего Карлуши. Стоит вместо него Фридрих. И не спрашивайте, как оно могло быть, я сам ничего не понимаю. Может быть, у них с холстом туго, а был сверхкомплектный Энгельс, они его и перекрасили — краски нестойкие, первый же дождь смыл... Или еще что. Не могу объяснить. Только факт остается фактом: вчера был здесь Маркс, а сегодня рядом стоят два Энгельса. Народ идет на работу, удивляется: а с Марксом что произошло? Проштрафился, что ли, в чем? Только после обеда опять: «К цирку, к цирку! К «Большевику», к «Большевику»!»
Конечно, его искрометный текст я пересказываю вполне уныло. И главное, вы не видите, уже никогда не увидите его ослепительной мимики. К этой секунде он довел нас до того, что мы заходились в хохоте от малейшей его гримаски, от неожиданной паузы, от чаплинского какого-то мотива абсолютного недоумения.
Мы выпросили перерыв, подняли стаканы, закусили, но рассказчик горел и не мог долго оставить свою тему.
— Правда, добрейший Григорий Львович поставил мне условия: «Какой у тебя рост? Ну, вот видишь! Целых четыре сантиметра не хватает. А сам понимаешь, что нельзя ни на миллиметр принизить отца мирового пролетариата. Значит, будет специальная обувь». И затем: «Ты у меня, Сережа, прочтешь полное собрание сочинений Маркса и, прости меня, своей рукой перепишешь «Капитал»!..» Я содрогнулся, как представил себе стопку тетрадей, где моей рукой выведено на каждой странице: «Товар — деньги — товар»... «Григорий Львович, а зачем?» — «Чтобы вживаться в образ».— «Тогда, чтобы быть ближе к образу, я, может быть, по-немецки перепишу?» Но Григорий Львович только по плечу похлопал: мол, вопрос решен, кончай острить. Ну, думаю, кажется, я влип.
Тщетно он отпрашивался к Лиле Брик. Его немедленно отвели в гримерную, часа полтора или два наклеивали на него уже готовую роскошную бороду, переодевали, повесили золотой монокль и разрешили немножко погулять по коридорам. Он встречал знакомых — они его не узнавали: окинут взглядом и спешат по своим делам! Будто каждый день видели отца мирового пролетариата. Сунулся в буфет, хотел пивка попить, никто из очереди не окликнул, не протолкнул вперед. А самым первым стоял Буденный с огромными усами. Куда уж тут бедняге Марксу, ему и не светит.
— Снова вышел в коридор, вдруг крик: «Карлуша!» Вглядываюсь: Фридрих! То есть загримированный под него Андрей Миронов. Замечательный артист, партнер прекрасный, но он же вечный мальчик, как же я могу играть его сверстника? А тут еще кто-то ходит за мной. Остановится шагах в десяти и смотрит. Я иду, он снова идет. «Что,— говорю,— тебе надо, дорогой?» Ничего, говорит, мне не надо, только я расписался за ваш монокль и теперь его охраняю. Можете себе представить? Только этого не хватало.
Проба снималась без звука. Григорий Львович напирал на то, что художественный совет будет потрясен портретным сходством. В остальном он дал своему ученику полную свободу. «Ты сам режиссер! Ну сочини какую-нибудь мизансцену. Вот тебе гусиное перо, вот керосиновая лампа, вот тетрадь... Пиши, размышляй, делай что хочешь!» — «А с юмором можно?» — «Именно с юмором! Ну, начали?»
То, что показал нам Параджанов, я, разумеется, не могу ни показать, ни пересказать. Я понял тогда потрясение, отмечаемое в старину от мейерхольдовских показов. Музыка невосстановима, но я дам представление об оперном сюжете, по крайней мере как я его прочел.
Маркс, человек великой мечты и великого интеллекта, наклонился над страницей тетради-фолио. Что же ему написать? Рука с гусиным пером сама собой выводит: «Пролетарии всех...» Он задумывается: всех ли? Нет, ошибки нет, именно всех. Хотя?.. Что-то раздражает его. Пером он машинально почесывает в бороде справа, все сильнее и сильнее, до полной рьяности. Опять задумался. «Пролетарии всех стран... Всех, всех! Так что же им делать-то, бедным пролетариям? Может быть... может быть, объединяться?» То же раздражение в районе левой щеки, тоже почти до истерики. Снова минута просветления. «По-видимому, ничего другого не остается — только объединяться... Да, да, пусть они объединяются...» Теперь уже в огне обе щеки, он отбрасывает перо, пальцами как попало что-то вычесывает в распахнутую тетрадь и начинает давить, давить, давить страницами!..
— «Все,— говорю — Я закончил». В павильоне полное молчание, только камера шуршит — оператор забыл выключить. Наконец Григорий Львович пришел в себя: «Так. Отснятое смыть, не проявляя. Этого субъекта в машину и на вокзал». Я говорю, что до поезда еще много времени, а мне надо к Лиле Брик. Он даже не посмотрел в мою сторону. И все остальные сторонятся как зачумленного. Только тот, кто охраняет монокль, на всякий случай подошел поближе, Отдал я ему монокль, переоделся, поехали. На вокзале пиво было безо всякой очереди. Только гляжу — откуда ни возьмись Григорий Львович, стоит рядом, старенький, с палочкой, смотрит болезненно, спрашивает: «Скажи, Сережа, зачем ты это сделал?» «Я у нас в Киеве в речи одного националиста запомнил такую фразу: мол, и у Маркса можно отыскать, если постараться, иную блоху. Понимаю, что речь шла о ляпах, неточностях, несогласованностях. Но я сюрреалист, со мной так шутить нельзя. Я тут же подумал: а где эти блошки прятались,— и пошла-поехала фантазия!»
В нем много было от мальчугана — претензия всегда быть первым, эти неумеренные фантазии, даже хвастовство. Он говорил: «Я снял гениальное кино» — еще об «Андриеше». Жизнь вообще существовала для него преимущественно игровой своей стороной — он играл в безапелляционные суждения, в нелепо-обидные или пристрастные приговоры, бесконечно противореча самому себе. Так, он называл гениальным «Сталкера», а от «Рублева» отмахивался, считая его ниже всякой критики.
Но играл-то он с вещами чрезвычайно серьезными и чувствовал это как никто. Искусства, ремесла, история, народность, духовность — ко всему этому он обладал каким-то особо чутким чувствилищем. Его поэзия была не в шорохе листьев, а в росте, в движении корней.
В последние годы, вернувшись в Тбилиси, он сильно изменился. Вместо прежней высокой, вдохновенной заносчивости все чаще приходили желчность, гневливость и счет обид — на тысячи, на миллионы, будто разом лишился прежнего дара легко прощать. В глазах у него все время стояла печаль, он не мог ее спрятать. Таким, я думаю, был Орфей, вернувшийся .из ада,— ему открылось невыразимое для нас.
Когда спохватишься, сколько он сделал для нас... Когда подумаешь, что мы ему сделали! Вместо тепла и благодарности за могучий, абсолютно оригинальный талант — пятнадцать лет вынужденного простоя, в самом расцвете дарования. От высоких и трудных замыслов мы оттесняли его в застольное словесное творчество...
Насколько богаче было бы человечество, если 6 не побивало камнями самых светлых и самых веселых из своих пророков.
Виктор Демин
«Советский экран» № 14, 1990 год