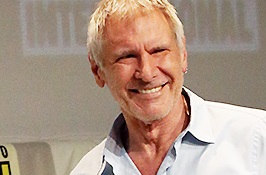Кинематограф — страна мифов и легенд, которые, к тому же, однажды возникнув, практически уже не рассеиваются, если к тому не приложить особых и специальных усилий. Могут рушиться авторитеты, казавшиеся незыблемыми, могут начисто исчезать из памяти имена, звучавшие громко, как труба,— легенды живут. Наверное, потому, что импульс для их рождения столь мощен, что ему не может противостоять ни время, ни волна переоценок ценностей, ни «смена наличного состава».
Для «Ленфильма» 70-х такой легендой был Григорий Михайлович Козинцев. Им, памятью о том, как «было при Козинцеве» и как стало «после Козинцева», мерялось на студии многое, если не все. Менялись директора и порядки, появлялись новые люди, не знавшие Козинцева, но всегда звучало сакраментальное: «Вот при нем не посмели бы! Вот при нем этого не могло быть». И это — не из той области, когда «раньше воздух был воздуш-нее и вода мокрее». Это из области реального.
Сейчас такой легендой стал Илья Александрович Авербах. Сейчас говорят: «При Авербахе не посмели бы!» И это — тоже из области реального. А поскольку так, то хотелось выяснить: из чего и на основе чего эта легенда рождается. Только сразу оговоримся: слово «легенда» означает тут не небылицу, а «изустное предание о былом». И поговорить об этом хотелось с человеком, мало склонным к «сотворению кумиров», но при этом долгие годы знавшим и Авербаха, и студию,— с Алексеем Германом. Начнем тоже с легенды, которая однако — быль. Зимним утром в Доме творчества кинематографистов «Репино», что под Ленинградом, к завтраку вышел расстроенный Герман и рассказал, что во сне ему сообщили о смерти Ильи Авербаха. Через два или три часа после этого рассказа раздался телефонный звонок, и все узнали, что умер Авербах. Такие вот бывают сны.
Я помню первые свои впечатления об Илье. Спортивный, красивый, похожий на Бельмондо. Пижон: курил сигары. Сноб: на вопрос «что мне делать?» (когда я зашивался на картине) посоветовал учиться… откупоривать шампанское большими партиями. Я в то время ходил в жутких бездарях, в неудачниках, он был всеобщий любимец. Удачлив. Остроумен. Любимый ученик Козинцева. На меня глядел свысока (если глядел вообще). Плохой способ понравиться. И все же — куда от этого деться — был неотразимо привлекателен.
И вот еще какая вещь: в общем, конечно, было важно и имело значение, кто какие снимает фильмы — плохие или хорошие. Но и тогда и сегодня для роли Авербаха на студии не это было главным. Понятно, снимай он плохое кино, все было бы несколько иначе. Но ведь в то время не он один делал хорошие картины — и Мельников тоже, и Трегубович. А вот аура была у него особая. Он был не просто баловень студии, этакий ласкаемый барчонок. Нет. Хотя его очень любили студийные начальники — это мало с кем из хороших режиссеров бывает...
- Простите, перебью: говорят, что он был потрясающий «производственник». То есть на кинофабрике, где постоянно царит хаос и разброд, где вечно чего-то или кого-то нет в самый ответственный момент, у Авербаха, по рассказам очевидцев, на съемочной площадке царил порядок, как в операционной: все всегда на месте и вовремя. Может, за это и любили начальники?
- Не знаю, на площадке у него никогда не бывал. Но вряд ли только за это. Он... как бы это сказать... любил и умел очаровывать. Был в нем такой человеческий шарм, артистизм. Не актерство (впрочем и это, наверно, тоже), но — артистизм. И чувство собственного достоинства, и интеллигентность...
Знаете, он умел — единственный — разговаривать с министром, всесильным Ф. Т. Ермашом, этак покровительственно, немножечко даже барственно, как бы снисходя. Это при нашей-то тогдашней лютой зависимости. Ермаш его не любил. А Илья мог позволить себе роскошь быть нелюбимым; не потому, что с ним сделать ничего было нельзя (еще как можно), а просто позволял себе такую роскошь, которой никто не мог себе позволить, да и все тут. Такой человек.
С годами в нем многое могло меняться и менялось, но сохранялось тоже многое, что трудно было сохранить. То самое пижонство, например (правда, с сигар перешел на красивые трубки). И это редкое самоощущение, что он — главнее и важнее начальников (в сущности ведь, так оно и есть).
И основное — то, на чем и стоит сегодняшняя легенда, как вы называете, об Авербахе: при нем «было стыдно». Совестно было. Это чистая правда. Стыдно было не только подличать или холуйствовать (достаточно было представить, какую он сделает гримасу — ужас!). Стыдно было говорить глупости и пошлости. Стыдно было называть белое черным или давить беззащитных.
То есть, конечно, все равно и делали и говорили — не будем мифологизировать ситуацию. Но уж больно дискомфортно это было при Илье. Для многих людей на студии. И многие после его смерти стали действительно позволять себе вещи, каких при нем позволить бы не посмели. Вот еще деталь: не могу сказать, что Авербах совершал Поступки. Так, чтобы кулаком по столу, без оглядки, напролом. Он был дипломат, конечно. Но зато людей вокруг себя подвигнуть на такой Поступок мог, умел. Опять же в силу этого своего необъяснимого качества: при нем совестились. Естественно, лучше помню то, что было связано со мной, но это эпизоды достаточно характерные и в общем. Шел худсовет по «Операции «С Новым годом» («Проверка на дорогах»). Меня уже из бездарей перевели в талантливые, картина (вернее, материал) всем нравилась, но уже было ясно, что начальство в восторг не придет. И худсовет, в общем, вертелся и так и сяк, чтоб не промахнуться, а попасть, и мне советовали — вполне из добрых побуждений — переделать и то и се. А главное — назначить мне на картину худрука, чтоб, значит, контролировал и окорачивал, если я зарвусь. Я наливался бешенством. И тут встал молчавший Илья. «Материал,— говорит,— очень хороший. Это, надеюсь, всем ясно». Все закивали. «Режиссеру надо доверять, ему виднее, не правда ли?» Все опять закивали. «Так чего ж тут советы разные давать?» Пауза. Все молчат. А он продолжает: «А насчет худрука... Ну зачем уж так: художественный руководитель! Пусть будет как у Пушкина: дядька Савельич при барчуке. Отпишет родителям, что, мол, паныч проиграл все деньги в карты, а проигрывать пусть не мешает». Сказал, сел, и все засмеялись. И кандидат в худруки — тоже. На том и разошлись.
Или вот я сам «заигрался» на фильме «Мой друг Иван Лапшин» с начальством в их игры. Заигрался настолько, что потерял чувство реальности (очень хотелось, чтобы фильм вышел): сделал серьезные переделки и продолжал считать, что картина все равно хорошая. И вдруг звонит Илья и вопит: «Что ты сделал, ты погубил картину, это ужас какой-то, сам что ли не видишь?» И я как очнулся, и увидел, что, правда, ужас. Сразу — как в воду — все-все вернул назад: черт с ним со всем, с ума я что ли сошел! Меня вызывают на ковер к тогдашнему директору студии Аксенову. Прихожу и ляпаю сходу: «Имею официальное заявление: Ермаш и Павлёнок — враги народа! И поскольку у нас сегодня художников не сажают, то худшее, что со мной могут сделать — это заставить продать отцовскую дачу, чтоб не сдохнуть с голоду. А если станут сажать, то еще неизвестно, кого из нас посадят первым. Все».
А не Илья бы, еще вопрос — когда бы я понял, что натворил и решился бы на этот демарш или нет. Он мне честь спас. Это не пустяк. В отличие от многих коллег, был совершенно неревнив к чужому успеху. Обожал талантливых людей, не стеснялся восторгаться. Кстати, тем, что на студии появился Сокуров, мы во многом обязаны Авербаху.
Я про фильмы Ильи не говорю сейчас, поскольку у нас не про то речь. Но пользуюсь случаем, чтобы сказать: Илью, такого, каким он был, с таким характером,— его погубила система. Погубила и убила. Других слов не подберу. Кто-то мог в этих обстоятельствах выжить, только не он.
По искусству: он в последние годы заметался как-то. Планов было много разных, но все какие-то не такие. После неудачи с «Голосом» (я считаю, что это, конечно же, неудача), то видовой фильм, то идея совместной постановки с Мексикой, то сценарий Валуцкого «Первая встреча, последняя встреча»...
Но было и главное: Булгаков. «Белая Гвардия». А время, помните, было какое? И он, значит, весь, всем существом своим — с Турбиными, с болью за них, за их исчезновение. (Он сам-то по матери Куракин, старинного русского дворянского рода. И очень был этим увлечен.) А надо было показать, как это здорово, что выгнали белых и какая это была прелесть, когда в Киев вошли красные. И чего только он ни придумывал, и как только ни бился над этим — все было мимо. Он на этом надорвался: очень серьезно относился к работе, жутко мучился. По жизни: его нельзя, ну нельзя было унижать. Никого, конечно, нельзя, но для него это было смертельно. Когда встал вопрос о том, кто возглавит Первое творческое объединение «Ленфильма» после ухода с этого поста И. Е. Хейфица, все мы были убеждены: кроме Авербаха — некому. Но тогдашний наш партсекретарь в высокой партинстанции заявил: «Авербах — аполитичен». И все. Назначили другого человека. Илью с наслаждением унижал Аксенов. А человек был уже нездоров. Для другого — как с гуся вода, для Авербаха — смертельная травма. Мало на свете есть сегодня людей, могущих умереть от унижения.
Я, вообще, уверен, что все эти раки — и у Тарковского, и у Авербаха — они неспроста. Не от плохого здоровья, и не «от радиации». Они — от системы.
Смерть Ильи была шоком для студии. Для всех вообще, и кто его знал, и кто просто видел и слышал. Утрата эта ощущается до сих пор и долго еще будет ощущаться болезненно. Его место — навсегда вакантно. Во дворе студии висело большое фото в черной рамке. И внутри студии тоже, все толпились у него, не расходились. На могиле Ильи я помирился с товарищем своим, с которым был у меня полный разрыв... Будь он сегодня жив, насколько меньше бы всякой муры снималось на студии... Да не в этом даже дело. Легенда, вы говорите. Легенды-то, они что, просто так возникают?!
Записала И. Ильина
«Советский экран» № 12, 1989 год