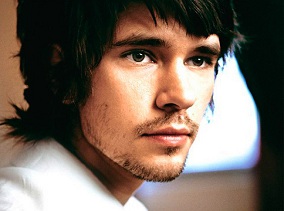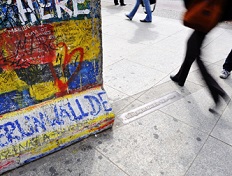Лев Александрович Аннинский – литературный критик, кинокритик, эссеист, писатель, член союза российских писателей. Карьеру критика он начал в 1956 году в журнале «Советский Союз». Затем публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Искусство кино» и других. До 1999 года был членом комитета Букеровской премии России, с 1997 вошел в комиссию по государственным премиями при президенте РФ. В последнее время ведет на телеканале «Культура» передачи о судьбах писателей и поэтов. В 2004 году за авторский сценарий к одному из циклов под названием «Серебро и чернь» получил премию ТЭФИ.
Книги Льва Александровича посвящены различным явлениям культуры: от бардовской песни до шедевров отечественной литературы и кинематографа, от советской и современной поэзии до проблем межнационального взаимодействия и места России в мире.
В кинорецензиях Л.А. Аннинский анализирует картины многих отечественных авторов, не только известных и опытных кинематографистов, но и дебютантов. Его интерес распространяется как на высокопрофессиональные работы, затрагивающие сложные исторические, национальные проблемы, так и менее удачные и серьезные, но отражающие новые тенденции в социуме.
Л.А. Аннинский как медиакритик, литературовед написал более двух десятков книг и сотни статей, в которых подробно анализирует произведения литературы, поэзии, кинематографа. Как кинокритик он пишет рецензии, анализирующие авторские замыслы, метафоры, стилевые особенности; очерки, описывающие появление новых картин и актуальность их тематики; этюды, содержащие зарисовки к сюжетным линиям киноповествований. В журнале «Дружба народов» Лев Александрович ведет рубрику, где затрагивает философские, политические, социальные и другие темы. В заметках встречаются, например, описания поведения и общения лондонцев («Кое-что о Лондоне...»), комментарии суждений У. Черчилля («Одиннадцать острот Черчилля о России…»), историко-политические размышления («Политика и этнос в объятиях современной истории»).
Л.А. Аннинский анализирует медиатексты, с одной стороны, с точки зрения их художественно-смыслового содержания, с другой, - оценивает как явления культурного процесса. В своих статьях он философски осмысливает события общественной и политической жизни нашей страны, раскрывая их культурологические источники и корни, вечное и сиюминутное.
В книгах и публикациях Л.А. Аннинского объемно и широко представлены литературный, кинематографический и культурный процессы России разных времен. Его погружение в мир русской литературы и кинематографа очень многопланово: от анализа социальных типажей, вписывающихся в реалии времени или выпадающих из них, естественности и подлинности событий, до исторических параллелей, связывающих культурные явления единой духовной нитью. На этих уровнях организуется единство и завершенность, где проглядывают глубинные слои русского сознания. Даже в самых простых действиях и поступках Лев Александрович умудряется увидеть мотивы, основания которых лежат глубоко в русском характере и психологии. Причем это сделано органично и естественно, что дает читателям возможность ощутить и понять свойственное природе русского человека.
Работы Л.А. Аннинского интересны культурологам и филологам, учителям литературы и медиапедагогам, а также всем читателям и зрителям произведений отечественной литературы и кинематографа. Учителя и преподаватели, использующие в работе с учащимися фильмы, могут применять приводимые примеры анализа стилистических и художественных, смысловых и идейных сторон художественных экранных произведений.
В книгах Л.А. Аннинского подробно описаны и рассмотрены жизненные события писателей, политические ситуации и философско-идеологические направления в литературных кругах, повлиявшие на их творчество. Автор откровенно делится переживаемыми чувствами к персонажам своих книг и статей.
Большое количество рецензий написаны автором сразу вслед еще не остывшим зрительским впечатлениям. При этом Лев Александрович с присущей ему интеллигентностью показывает глубокие и прочные связи между жизненными событиями и явлениями. Его реакция на тот или иной фильм вписывается во время, воссоздавая и указывая на его целостность, поддерживая его течение. Но это не то течение, которое с бешеной скоростью уносит с собой все важной и ценное, в этом течении проявляются корни и истоки современности в культурно-исторических недрах.
Некоторым впечатлениям от просмотренных кинолент Лев Александрович дает время остыть и улечься, чтобы найти контекст, в котором они будут правильно осознанны. Это относится к фильмам 1990-х годов, осмысляющих новую реальность новыми средствами.
Одну из своих книг Лев Александрович назвал «Поздние слезы. Заметки вольного зрителя» [Аннинский, 2006]. В ней собраны небольшие статьи и очерки о кинокартинах, снятых в основном отечественными режиссерами в период с 1986 по 2006 годы. «Поздние слезы» по ушедшему времени, которое из современной реальности представляется в светлых тонах, и которое, по мнению автора, было очень нужным нашей стране. Отсюда и авторский вопрос ко многим кинорежиссерам и киносценаристам: зачем искажать действительность? Зато у своих любимых режиссеров Аннинский видит подлинность времени (фильмы В.Ю. Абдрашитова, А.Ю. Германа, О.Д. Иоселиани, Г.А. Панфилова, А.Н. Сокурова).
Л.А. Аннинский начинает рецензирование фильма с краткого описания истории его создания, авторских мотивов и переходит к поиску ассоциативных связей действий, образов, эпизодов, сюжетов, встречающихся в других кинематографических, литературных, а иногда и изобразительных произведениях, обнаруживая стилистические и композиционные сходства. Развивая мысль, автор переходит к анализу художественной мира, в котором живут герои, сравнивает его с реальной действительностью. Сравнение позволяет найти в стилистике отображение подлинности чувств, свойственных определенному историческому времени.
Иногда рецензии начинаются с перечисления социальных типажей, моделей их поведения, идей кинематографистов, подводящих к основному названию киноленты, озвученному в заключении.
Нередко Лев Александрович переходит к спору с создателями кинокартин, формулирует свое отношение к присутствующим в них символам, мотивировкам, смыслам.
В финале рецензии автор, как правило, выводит признак времени, ставит вопрос, либо выдвигает гипотезу, отсылает к вечным вопросам или проблемам. Ведь настоящее искусство не дает ответов, оно всматривается в реальную действительность, во внутренний мир с тем, чтобы представить вещи такими, какие они есть на самом деле. Л.А. Аннинский следует тому же принципу. Он представляет идеи создателей произведений, намечая значение этих идей в нашей культурной судьбе, и избегая однозначных выводов.
Лев Александрович держится в стороне от политики и не ищет аргументов в поддержку какой-либо из политических сторон. Скорее, ему ближе позиция: зло порождает зло. То есть сегодняшний медийный мир, к сожалению, раздувает даже мирные противоборства до страшных извращенных форм, не говоря уже о конфликтных ситуациях в бытовой или политической сфере. Л.А. Аннинскому, вероятно, близка такая позиция: истина рождается не в споре, а в диалоге. Самый главный аргумент Аннинского – логика исторических событий, заключающаяся в том, что меняются эпохи, а природа человека остается той же. А еще ему присуща осторожность в высказывании окончательных версий, так как любому событию необходима проверка временем.
Лев Александрович поддерживает один из актуальных тезисов понимания современными исследователями сущности медиа: «ни одно искусство не знает такой свободы манипулирования человеком, как кинематограф» [Аннинский, 2006, с. 414]. Доводы Л.А. Аннинского вполне ясны: в восприятии произведений литературы, живописи, скульптуры реципиент достраивает идеи, образы до целого в своем сознании; в восприятии кинофильма целое уже есть и давит всей своей мощью на зрителя. Поэтому автор не стремиться определить в своих статьях точный диагноз, событиям, но ищет их корни.
Наверное, в понимании свободы как внутреннего свойства, способного удерживать человека от споров и борьбы за превосходство, обнаруживается главный аргумент авторской позиции. Так Лев Александрович с философским очарованием и эстетическим удовольствием анализирует фильмы Вадима Абдрашитова. Автору нравятся стилевые особенности и мировоззрение режиссера, а главное – его способность передать подлинность времени с признаками уходящих и приходящих ценностей.
Даже в неудавшихся, по мнению Л.А. Аннинского, произведениях он находит эстетически и художественное ценные кадры и образы. И с особой любовью пишет об актерах и актрисах, обладающих внутренним благородством и внешним обаянием.
Анализируя фильмы, Лев Александрович как бы восстанавливает время их рождения и жизни, с уходящими в историю корнями и перспективами в будущем. Так он открывает временную бездну, где вещи наполняются смыслом, создает цепочку, связывающую отдельные произведения искусств между собой.
Л. А. Аннинский прорисовывает типажи персонажей вслед за авторами произведений в поиске их места в культурном пространстве, где они естественны и натуральны. Если же этого места не находится, то действия персонажа оборачиваются фарсом. Он также ищет в культурном пространстве почву, которая питает душевные силы персонажей, раскрывает их природу, внутреннюю сущность, демонстрируя понимание того, что меняющиеся условия жизни и политические режимы не изменят этой природы, а человеку самому побороть ее бывает не под силу. И быть может, он порой в чем-то идеализирует кинематографистов, писателей, поэтов и их героев.
Льву Александровичу не свойственны крайности в оценках произведений литературы и кинематографа. Ему ближе понимание души русского человека, национального характера, корней исторических и природных, влияющих на российскую жизнь в разные времена. Л.А. Аннинский посредством описания удавшихся у авторов изображений естественности и натуральности вещей, проникает в природные закономерности самой реальности, столетиями складывающиеся в исторических традициях и обычаях, осевшие в русском характере. В деталях и мелочах он видит целые пласты сознания, заставляющие действовать человека определенным образом.
В книге «Три еретика» Лев Александрович находит и отмечает самое важное художественное открытие П.И. Мельникова-Печерского: «русский человек потому и укрепляет себя с неукоснительной внешней жесткостью и мелочной цепкостью, что внутри души своей чувствует гибельную, предательскую мягкость; он потому так круто, так крепко сцепляет внешние границы своего бытия, что внутри нет границ» [цит. по: Аннинский, 1988, с.204]. В этой характеристике слышится и оправдание русского человека, и понимание парадоксальных противоречий, свойственных русской душе.
Л.А. Аннинский вчитывается и всматривается в каждую деталь литературного и кинематографического текста, пытается разглядеть тончайшие оттенки переживаний и смыслов, стремиться раскрыть индивидуальность авторского замысла. Даже в медиатекстах «второго ряда» он выискивает значительные по философской глубине идеи, не притягивая их при этом со стороны, а, находя внутри отдельных кадров и образов, основных сюжетных линий и тем.
Лев Александрович видит смысл жизни в прохождении пути через страдания, в которых человек очищается от плотской страстности, что дает пищу и материал для искусства. У многих писателей и режиссеров Л.А. Аннинский находит и описывает переживание и понимание становления человека на пути к себе через страдания. И здесь важна сама атмосфера, в которой происходит эта внутренняя борьба: в противном случае получается кич как отсутствие атмосферы «вакуум, в котором движутся поразительно точно воссозданные муляжи, это встреча материальных тел в страшном сне» [Аннинский, 2006, с. 73].
Атмосфера для Льва Александровича представляется одной из важных для поиска смыслов. В ней он отыскивает сначала отзвуки смыслов и идей, а затем, в общих тональностях открывает изображение глубинных тем. Ведя за собой, Л.А. Аннинский погружает читателя в «воздушные» сферы произведения, показывая тонкие грани их взаимопроникновения или отторжения. Последнее встречается чаще: «ощущение души, парящей в пустоте, ищущей контакта и опоры, не находящей опоры» [Аннинский, 2006, с. 76]. Такой, например, видит автор атмосферу «Астенического синдрома» К. Муратовой.
Лев Александрович находит в сюжете «Всадника по имени смерть» К.Г. Шахназарова эпизоды, где просвечивает русская душа, но на которую режиссер не обращает внимания. «Из одного визита вдовы убитого великого князя, которая пришла в камеру к Каляеву пожалеть и простить убийцу, – можно извлечь бездны русского мученичества» [Аннинский, 2006, с. 376]. В этих-то моментах и таятся ответы на вопрос: откуда в народе такая жажда царской крови? Но на него, по мнению критика, режиссер как раз и не дает ответ, увлекаясь «голливудскими стандартами»: перестрелками, взрывами, покалеченными телами и т.п.
Л.А. Аннинский ищет определение движущим силам нашей культуры в произведениях искусства. В статье о ленте Н.Н. Досталя «Штрафбат» он пишет: «на дне русской души веками копится смутное ощущение всеобщей вины и ожидание кары за неизбежный блуд души» [Аннинский, 2006, с. 386]. Философский поиск выводит автора на сюжеты, схожие с сюжетами М.К. Мамардашвили, который писал: «Решающий внутренний психологический и социальный механизм русской, российской культуры можно, я думаю, выразить несколькими словами: всегда – завтра, всегда – вместе и всегда – в один сверкающий звездный час» [Мамардашвили, 1995, с.34]. Эту «соборность» Лев Александрович и пытается разглядеть в кинолентах некоторых мастеров отечественного экрана.
В своих чувствах Л.А. Аннинский признается честно и искренне, не расплываясь в сентиментальностях, но выражая уважение к авторам. При этом нельзя сказать, что Лев Александрович скуп на похвалы: такими эпитетами как «великий художник», «великий режиссер», «мастер», он одаривает А.А. Тарковского, В.Ю. Абдрашитова, А.Ю. Германа, О.Д. Иоселиани, Г.А. Панфилова, А.Н. Сокурова.
Если говорить о вопросах, которые интересуют Аннинского, то один из наиболее значительных и часто встречающихся: что с нами происходит? Этот вопрос был очень важен, например, для А.А. Тарковского, и Лев Александрович находит место в культурном пространстве современности духовному отзыву режиссера, отвечающему на проблемы сложной устроенности реальности. Например, в статье «Попытка очищения?» в сопоставлении мироощущений А.А. Тарковского и современных режиссеров Л.А. Аннинский обнаруживает только ему присущее видение бесповоротности исторических событий, сдавливающих своими объятиями силы человеческой души: чистоту, бескорыстие, красоту, любовь: «драма индивида знает узловые, судьбоносные моменты, когда решается (или рушится) ее контакт с миром, с землей, с родиной. … Бывает любовь, растворенная в гордости, в преданности, в верности. Бывает любовь-боль» [Аннинский, 2006, с. 58-59]. В этой катастрофе А.А. Тарковский проникновенно изображает глубину человека, бесконечно ищущего утрачиваемую связь с миром. В своей статье о А. Тарковском Лев Александрович отмечает аскетичность, безудержность и непримиримость в стремлении его к идеалу и заключает: Тарковский – художник чистых линий и стихий… глядевший в глаза бездне [Аннинский, 2006, с. 59].
Л.А. Аннинский стремится более к изображению индивидуальных стилевых особенностей режиссеров, художественных находок, чем к критическому осуждению их творческих промахов или недостатков. Так в статье о фильме В. Абдрашитова Лев Александрович отмечает ту внутреннюю особенность художественного мироощущения, которую он ищет в художниках: «очень важно, что в «Охоте на лис», простит или не простит герой своего обидчика, но важнее, что ни тот, ни другой не умеют прощать… очень важно, хороший или плохой мальчик показан в фильме «Плюмбум», но важнее то, что мы не хотим знать и не умеем понять, не имеем критерия определить нравственную истину» [Аннинский, 2006, с. 65]. Автор призывает своего читателя к осознанию собственной причастности к разрушительным процессам, развернувшимся в нашей стране под влиянием тоталитарной идеологии.
Л.А. Аннинский более душой за Россию. В комментариях к фильму С. Говорухина «Россия, которую мы потеряли» чувствуется желание Льва Александровича понять корень российских проблем. Он повторяет мысль И. Ильина – православного философа, посвятившего свои труды красоте русской природы, истории и культуре: «советская власть – лишь закономерное оформление того недуга, которым болела Россия на протяжении столетий» [Аннинский, 2006, с.147]. Философское проникновение в пласты русской культуры и истории помогает взглянуть на проблему «потерянной России» широким взглядом и с большим количеством неоднозначных вопросов. Ведь однозначности здесь не найти: «Русская душа – потемки». Самый главный вывод: «Спасет – терпеливый, кропотливый труд. На протяжении поколений» [Аннинский, 2006, с. 148]. Мы не хотим трудиться, пишет Лев Александрович. «Мы» – он повторяет неоднократно, и возлагает ответственность за «потерянность» на всех нас.
При всем этом Л.А. Аннинский в какой-то степени защищает СССР от ругательств кинематографистов, которым она предоставляла возможности работать и творить: «Ничего этого не было бы, наверное, если бы гигантская мировая Держава не обеспечила некоторый комфорт своим трубадурам. Посмеиваться над этой Державой… неблагодарно, да и не разумно» [Аннинский, 2006, с. 212].
Автор настаивает на человеческой красоте и достоинстве, которые подвергаются давлению злобных мыслей и действий, он противится изображению опустошенной и потерянной России в фильмах 1980-х- 1990-х, если их авторы забывают сложную и многовековую историю, культуру, веру в идеалы, наложившие свой отпечаток на коллективную психологию. Он пишет, что «народ у нас, особенно «низовой», действительно склонен к уравнительности и круговой поруке; свобода, неотделимая от «бардака», будит в наших людях страшные инстинкты…» [Аннинский, 2006, с. 208]. Анализируя документальный фильм «Звонок из России», Лев Александрович отмечает: «по окраинам доживают свой век люди, когда-то положившие силы, молодость, надежду – в основание державы. Той державы нет. Осколки есть» [Аннинский, 2006, с. 204]. В комментариях слышится грусть о потерянности благородства, высоких идеалов.
Но не почвенничество проглядывает в мыслях и идеях Л.А. Аннинского, а любовь к глубокой русской душе. Он ревниво относится к искажениям на экране советской/российской действительности. Для него очень важен честный взгляд авторов. Отсюда в статьях и множество критических замечаний в адрес авторов, неверно толкующих психологию советских/российских людей.
Лев Александрович называет «шестидесятников» поколением идеалистов, имея в виду, что они последние, верившие в светлые идеалы. В одной из своих статей он характеризует себя: «я неисправимый и неразоружившийся шестидесятник… я несомненный и нераскаянный советский человек… Моя жизнь – это русская культура, русской государство» [Аннинский, 2006, с. 123]. Именно в шестидесятые наступила оттепель, повеявшая свободой. Время, в котором можно было слышать голос индивидуальности, личности, почувствовать порыв к искренности. В этих характеристиках обнаруживает себя стремление к свободе свойственной шестидесятнику и русскому, аскетизм советского человека. Как русского его волнует место человека в мире, в истории, потому как без своего места человек не может жить полно, являя глубину своего естества.
Отсюда и еще один сюжет статей Л.А. Аннинского – пустота и полнота времени, жизни. Он искренне откликается на темы русской неустроенности, непрагматичности. В его статьях чувствуется испытываемое им удовольствие от угадывания создателями произведений этих черт русской жизни: «Как же это по-русски! Обругать через запертую дверь, а потом с улыбкой выйти и одарить… Водопровод отключить и потащить баки в руках» [Аннинский, 2006, с. 137].
В книге «Шестидесятники и мы» Аннинский детально проанализировал появление новых тем, в которых как продолжение слышалось то, о «чем прокричало наше кино в "Журавлях"… Я ничего не понял тогда, только почувствовал: что-то подломилось во мне, что-то началось… Началось с "Журавлей"» [Аннинский, 1991, с.105, с.6]. В самом деле, «Летят журавли» – единственный в истории нашего кинематографа фильм, увенчанный золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля. Эта картина оказала взрывной эффект на зрителей, критиков, киноведов: зрители лили слезы и сострадали, критики путались в чувствах и не могли дать им точного определения, киноведы увидели появление нового стиля. Но главное в том, что впервые показана измена и прощение, с таким надрывом человеческих чувств, которые дают полное оправдание главной героине, совершившей эту измену. В этом выразилась свобода, которую почувствовали шестидесятники, дышать которой они стремились.
Лев Александрович анализирует причины колоссального влияния фильма «Летят журавли» на наш кинематограф. Это и операторские открытия, и актерские работы, но особо значительной стала тема драматизма личности: «человек в горниле истории. История – через личность. Драматическая судьба личности – и железная логика истории» [Аннинский, 1991, с.49], вот идеи, раскрывавшиеся в нашем кинематографе 1960-х годов, следующим за «Журавлями» - идеи свободы личности, выбирающей свою судьбу, которые были особенно близки шестидесятникам.
В названиях рецензий Л.А. Аннинского есть символизм, указывающий на историческую перспективность сюжетов, ирония, тонко оценивающая неумелость кинематографистов, или настраивающая на лирические комментарии. В некоторых заглавиях отражается («Хермер, мужики!», «Я обмэр» и др.) восклицательное изумление от внезапно ворвавшейся в наш быт новой реальности, заполняющей своей пустотой всё вокруг.
В текстах Льва Александровича нет засилья киноведческих научных оборотов и терминов, он переходит кинометафор к сюжетным поворотам, к анализу отношения этих сюжетов к культурным и историческим процессам. Л.А. Аннинский описывает время, перечисляя его приметы, найденные, подмеченные им в фильмах, сравнивает, отдавая автору авторское, а реальности реальное. Конечно при этом трудно избежать субъективности, но на помощь приходит чутье человека, проникшегося русской культурой от «верха» до «низа», где «верх» – Л.Н. Толстой, а «низ» – Ф.М. Достоевский. Не в буквальном смысле, а, конечно, в художественно-символическом.
В статьях Льва Александровича редко встречаются прямые цитирования, хотя местами имеются ссылки на мнения писателей, поэтов, кинорежиссеров, киноведов, критиков и других исследователей культурной сферы нашей жизни. В основном это мнения о социальных изменениях, взгляды на кинопроцесс и оценки отдельных работ, опираясь на которые, автор определяет место явлений в пространстве нашей культуры.
Л.А. Аннинский приводит цитаты для того, чтобы передать общее настроение аудитории и критиков. Сопоставляя различные мнения, он наводит читателей на мысль, что нет завершенных оценок для произведений искусств, а есть культурный процесс, где одни явления особо значительны и влиятельны, а другие менее существенны. В своих книгах Лев Александрович использует прямые цитаты и ссылки, скрупулезно восстанавливая библиографические подробности судеб писателей, поэтов, кинорежиссеров, о которых ведет повествование. Он восстанавливает атмосферу той реальности, в которой складывалось их мировосприятие и художественный стиль.
На наш взгляд, тексты публикаций Льва Александровича могут быть полезны на занятиях по медиаобразованию. Имея в поле критической мысли произведения литературы, поэзии, кинематографа, музыки, Лев Александрович приводит аналогии их стилевых и тематических особенностей, выявляет основания их появления в определенном историческом времени и культурном контексте. Опираясь на этот материал, можно успешно формировать у учащихся знания по истории и теории медиакультуры.
Сама по себе медиакритика (созидательной направленности), полезна любому желающему лучше понять мир авторов произведений разных видов и жанров, а медиатексты Л.А. Аннинского представляют бескрайние возможности для погружения в художественные миры и трезвое осмысление различных сторон объективной реальности. Анализ исторических, политических, социальных, психологических и других причин актуальности тем, раскрываемых Л.А. Аннинским в художественных текстах или кинофильмах на определенном культурно-историческом этапе, может лечь в основу деятельности по развитию аналитических способностей у учащихся.
Отношение Льва Александровича к отечественной истории и культуре может послужить основой для развития способностей и к идеологическому анализу. Описывая идеологическую борьбу власти против поэтов, писателей и режиссеров, автор раскрывает мотивы их действий, мировоззренческие установки, отношение к политической системе. При всех трагедиях в их судьбах, он отмечает положительные моменты советской власти (например, духовная мобилизация советского народа в войне против гитлеровской Германии). Это представляет богатый материал для работы с учащейся молодежью в направлении их идеологического воспитания.
В рецензиях и статьях Л.А. Аннинский моментами переходит к диалогу с авторами кинолент, ставя перед ними и читателями проблемные вопросы. Такие диалоги с успехом можно продолжить в аудитории с учащимися, активизируя их к поиску ответов на вопросы и решению проблемных ситуаций, формирую у них медиакомпетентность.