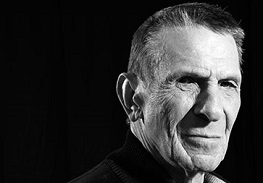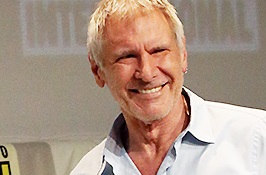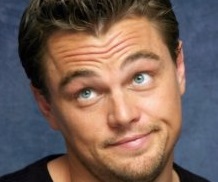Период 1960-х годов
Общий социокультурный, политический и идеологический контекст 1960-х:
- продолжение интенсивного внедрения коммунистической и антирелигиозной идеологии;
- постепенное свертывание критики сталинизма на фоне тотального стремления к торжественным празднованиям разного рода советско-коммунистических юбилеев государственного масштаба;
- продолжение политики «мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем» при сохранении жесткой «идеологической борьбы» с «империалистическим Западом» и интенсивной милитаризации страны, сопровождавшейся развязыванием локальных военных конфликтов (в Африке и в Азии), советская интервенция в Чехословакии (1968), поддержка, в том числе военная, прокоммунистических режимов в развивающихся странах.
- продолжение индустриализации (в основном тяжелой и военной промышленности), освоения космоса (первый в мире космический полет ракеты с человеком на борту в 1961 году) в сочетании с попытками хоть как-то решить бытовые и жилищные проблемы населения;
- продолжение борьбы с «инакомыслящими» (с А.Синявским, А.Солженицыным и др.).
Перед кинематографом, затрагивающим тему гражданской войны, с целью поддержания основных линий государственной политики авторитарного советского режима ставились четкие пропагандистские задачи, которые и служили основой для концепций авторов фильмов:
- показать, что террор эпохи гражданской войны был вынужденной мерой, принесшей России многочисленные страдания; умолчать, или, по крайней мере, скрыть истинные масштабы массового террора этой эпохи;
- убедить зрителей, что так называемый «революционный террор» большевиков, чекистов совершался с самыми благородными целями, а коммунисты и их сторонники были честными, преданными благородной идее защитниками прав угнетенных.
Жанровые модификации тематики Белого движения: драма (военная, историческая), детектив, реже — мелодрама, трагикомедия, комедия, вестерн/истерн.
Стилистика большинства этих фильмов уже не определялась строгими канонами «соцреализма». Помимо весьма традиционных для этого направления экранизаций («Оптимистическая трагедия», «Железный поток») на экраны выходили лихие приключенческие фильмы типа «Неуловимых мстителей» и «Новых приключений неуловимых», действие которых разворачивалось в эпоху гражданской войны, а взаимная ненависть враждующих сторон подавалась, как неизбежное жанровое условие игры. Истребление десятков людей на экране выглядело неким аттракционом...
Особое место в этом ряду приключенческих фильмов занимали ленты (в жанровой смеси детектива и триллера) о ловких чекистах, «чистыми руками», огнем и мечом выжигающие «враждебную заразу» (то есть миллионы людей, в той или иной степени не согласных с большевицким режимом) с земли русской («Именем революции», «Сотрудник ЧК», «Операция «Трест»).
Однако, несмотря на общую тенденцию, даже в этих лентах белогвардейцы все чаще показывались умными и храбрыми врагами. К примеру, события «Операции «Трест» и «Краха» разворачивались под стать сложной шахматной партии, где соперничали игроки практически равные по мастерству. Так в детективе С.Колосова «Операция «Трест» (1967, по мотивам романа Л.В.Никулина «Мертвая зыбь») актриса Л.Касаткина блестяще сыграла руководителя белоэмигрантской диверсионной группы Марию Захарченко-Шульц. На экране — «сильная, амбициозная и в то же время обаятельная женщина, любящая свою родину. Она готова ради ее спасения оставить блистательный Париж и тайно, подвергая себя опасности, пробираться в советскую страну, чтобы там активно бороться против большевистского режима. Погибает Захарченко-Шульц с маузером в руке, окруженная чекистами, но не сломленная» [Волков, 2008].
Не менее харизматичных врагов советской власти сыграли в детективе В.Чеботарева «Крах» (1968) актеры В.Самойлов и Е.Матвеев. В этой версии ликвидации террористической организации Бориса Савинкова особенно запоминается герой Евгения Матвеева полковник Павловский — мощный, сильный, расчетливый, яркий. Да и сам Савинков (в исполнении актера Владимира Самойлова) показан вопреки прежним канонам однозначных врагов-злодеев: ироничным интеллектуалом, человеком, несомненно, талантливым и неординарным.
Неоднозначен и уставший белогвардейский полковник в колоритном исполнении Евгения Лебедева из драмы Г. Панфилова «В огне брода нет» (1967). У него также есть свои понятия о Добре и Зле, своя правда…
Стоит отметить, что тенденция «стереоскопического» показа деятелей Белого движения охватывает большинство фильмов о периоде 1918-1924 годов, снятых в СССР во второй половине 1960-х.
Так в военной драме о боях красных с войсками адмирала А.В. Колчака «Гроза над Белой» (1968, режиссеры Е. Немченко и С. Чаплин) весьма выразительно и емко был представлен образ генерала М.В. Ханжина. В убедительном исполнении Ефима Копеляна — это умный и интеллигентный патриот и бескорыстный борец за Россию без большевиков. «Для него неприемлемы пропагандистские штампы о Красной армии. В связи с этим он даже поправляет своего адъютанта, чтобы тот вместо словосочетания «красные банды» произносил слово «противник». Генерал понимает, насколько сильна Красная армия и стремится предугадать замыслы ее командования» [Волков, 2008].
При этом попытка А. Аскольдова в драме «Комиссар» (1967) раскрыть подлинный трагизм эпохи гражданской войны и антигуманную суть революционного террора и насилия была безжалостна подавлена: фильм был запрещен на целых двадцать лет...
В тоже время «эстафету от Чухрая спустя десятилетие подхватило следующее поколение советских кинематографистов, представители которого стали создавать выдающиеся с точки зрения искусства, но весьма уязвимые с классовых позиций произведения» [Раззаков, 2008], такие как, например, «Служили два товарища» (1968), «Адъютант его превосходительства» (1969) и др.
Думается, режиссер фильма «Служили два товарища» (1968) Евгений Карелов ни до, ни после не добивался такого значительного художественного результата.
...Интеллигентному фотографу Андрею Некрасову (О. Янковский) и борцу за коммунистическую идейность Карякину (Р. Быков) приказано провести воздушную разведку накануне штурма Перекопа осенью 1920 года. Но одного из них уже ждет пуля гвардии поручика Бруснецова (В. Высоцкий)...
Талантливая работа режиссера Е. Карелова и сценаристов Ю. Дунского и В. Фрида была подкреплена блестящими актерскими работами. В. Высоцкий сыграл своего харизматичного героя в состоянии крушения личности: отчаянно храбрый, сильный, умный и бескомпромиссный, он не может смириться с крахом Белого движения и эмигрировать... В череде драматических и иронично-комедийных сюжетных поворотов отчетливо видна трагедия русской нации, беспощадно разделенной на красных и белых. Эта тема достигала кульминации в знаменитом эпизоде с самоубийством героя Высоцкого на палубе парохода, взявшего курс на Стамбул... И в зрительской памяти еще долго «прокручивались» кадры с бруснецовской лошадью, обреченно рассекающей холодные морские волны...
В череде детективных трактовок событий гражданской, быть может, самым яркой оказалась телевизионная лента Е. Ташкова «Адъютант его превосходительства» (1969).
Известно, что «в основе детектива лежит неприглядная изнанка общества — это настоящая жизненная помойка, грязь и пошлость преступления, кровь, слезы, страдания. Свои малопривлекательные стороны есть, разумеется, и в жизни разведчиков — обман, подкуп, двуличие, тоже убийство и кровь и многое, многое другое, тяжелое, мучительное, неприглядное, мало годящееся в качестве предмета для легкого развлечения. Эта мрачноватость жизненного материала, идущего на строительство приключенческого сюжета, должна быть в какой-то степени преодолена, погашена или стерта совсем. Таким образом, между реальностью жизненного материала и условностью жанра возникает напряженная конфликтная коллизия. В плоскости этого конфликты лежит и проблема характера, проблема изображения человека» [Фомин, 1980, с.28]. Вот почему, выбрав жанр детектива, авторы «Адъютанта…» не стали, разумеется, нарушать традиции и всячески избегали возможных «рифов» исторической правды. В их задачу входило не документальное воссоздание подлинных реалий, а, пусть даже и романтизированный, но вызов ортодоксальным представлениям прошлых лет о «плохих белых» и «хороших красных»…
…Красный разведчик Кольцов, интеллигент и умница, в штабе деникинской армии. Психологический поединок между Кольцовым и командующим корпусом генералом Ковалевским, тоже умнейшим и интеллигентнейшим человеком... Согласитесь, такой расклад сюжета был непривычен для зрителей, «воспитанных» на «Щорсе» или «Чапаеве», где белые (или сочувствующие им) представали на экране жестокими врагами... Конечно, в сериале «Адъютант его превосходительства», прежде всего, привлекала детективная интрига: поймают, или не поймают, узнают, или не узнают, получится, или не получится? Но имея в качестве партнера-противника такую незаурядную личность, как генерал Ковалевский, Кольцов, бесспорно, набирал дополнительные очки у массовой аудитории.
Генерал в исполнении В. Стржельчика был импозантен, вальяжен, умен, ироничен и совсем не напоминал картонных персонажей из антибелогвардейских агиток прошлых лет. «В образе генерала Ковалевского, кажется, сфокусировалась вся история русского офицерства. Грузный, сутуловатый, его уже невозможно представить себе ни ловко гарцующим на коне, ни лихо щелкающим шпорами, ни летящим в вихре мазурки. Его можно представить себе только таким, какой он есть сейчас: усталым, склонившимся над штабным столом. И все-таки во взгляде припухших глаз, в повороте головы, в интонации голоса сквозит тот благородный блеск, который в течение столетий окружал само понятие «русский офицер». Веками вырабатывавшаяся традиция, идеалы, культура — вот, что стоит за плечами Ковалевского-Стржельчика, делает его фигуру особо выразительной, масштабной» [Забозлаева, 1979, с.120-121]. Скажу больше, Ковалевский уже тогда, в конце 1960-х, вызывал симпатию и сочувствие. Но, к сожалению сторонников «белой идеи», обаятельный герой Ю.Соломина, которому так шел мундир добровольческой армии, был не с ним, а с фанатичными «борцами за светлое будущее человечества»...
Кроме того, в фильме были «сцены, которые ранее были бы просто немыслимы для советского кинематографа. Пятеро белых офицеров и двое большевиков, один красноармеец, другой красный командир, оказавшись вместе в плену у бандитов, совершают дерзкий побег. Избавившись от погони и сидя почти всей компанией на тачанке, они радостно переживают свое счастливое избавление, дружно смеются и разыгрывают друг друга. И лишь затем, вспомнив о своих политических симпатиях, они благоразумно отправляются в разные стороны: белые — на восток, красные — на запад» [Волков, 2008]. В итоге «Адъютант его превосходительства» агитировал против советской власти лучше любого «вражьего голоса», воркующего ночью за западные деньги по Би-Би-Си» [Бузина, 2009].
Но подлинным особняком в ряду советских фильмов о гражданской войне и сегодня выглядит поэтическая драма Миклоша Янчо «Звезды и солдаты» («Красные и белые», 1967).
Уже на уровне сценарной разработки этой советско-венгерской постановки строгие мосфильмовские цензоры попытались сделать все, чтобы смягчить пацифисткий пафос и столь же неприемлемый для тогдашних коммунистических нравов эротизм фильма М. Янчо. История столкновения красного венгерского отряда с белогвардейцами летом 1918 года, представленная режиссером в его излюбленной манере завораживающей геометрии балетных узоров мужских фигур в форме, гарцующих всадников и обнаженных женских тел, снятых подвижной камерой, в итоге вышла на экраны в двух версиях: сильно сокращенной и переозвученной советской («Звезды и солдаты») и авторской – венгерской («Красные и белые») [драматичные подробности истории создания картины изложены в книге: Страна Янчо…, 2002, с.76-92].
Так или иначе, но в обеих версиях представители Белого движения показаны уставшими, быть может, обреченными, но сильными людьми, сражающимися за свои идеалы. «Это не ваша война», - говорит в фильме белогвардейский офицер (его роль замечательно сыграл Г. Стриженов) венгерским солдатам, втянутым в красный вихрь романтическими иллюзиями всемирной революции…
Но даже приглаженный цензурой советский вариант фильма М. Янчо вызвал отторжение у официозной критики тех лет, упрекавшей «Звезды и солдаты» в абстрактном пацифизме, размытости идейной позиции, зашифрованности смысла, чрезмерном изображении насилия и холодном авторском взгляде на гражданскую войну: «Все действие в фильме построено по принципу контраста: прекрасная природа и жестокие люди. Дикая ненависть, убийство, погони, предательство, насилие царят среди людей… Но сочувствие к жертвам не рождается, ибо на экране не живые люди, а живописные фигуры. Режиссер совершенно исключил психологию. Все это взято абстрактно. Танец смерти. Ритм. Монтаж. Пластика. Непрерывное движение камеры» [Погожева, 1972].
Разумеется, на Западе «Красные и белые» принималась совсем иначе: картина была признана лучшим иностранным фильмом во Франции, ее значимость, выдающиеся художественные качества отмечаются киноведами и в XXI веке [Menashe, 2005].
На мой взгляд, антивоенный посыл фильма и сегодня весьма актуален, особенно в свете гражданской войны, вспыхнувшей на востоке Украины в 2014 году…
Еще одним значительным фильмом исследуемой нами тематики в 1960-х была трагикомедия Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» (1969).
... На южных российских просторах полыхает гражданская война, и по улицам маленького городка по очереди скачут отряды красных, белых и
зеленых. Но одержимый идеями Нового Революционного искусства Искремас (Олег Табаков) вопреки всему мечтает создать небывалое театральное зрелище... Эта трагикомедия, бесспорно, стала лучшей в кинобиографии А.Митты («Экипаж», «Сказка странствий», «Граница. Таежный роман» и др.).
Поначалу роль Искремаса должен был играть Ролан Быков (1929-1998). Однако именно в это время он впал в немилость из-за запрещенного «Комиссара». И роль в итоге досталась Олегу Табакову. Табаков сыграл ее вдохновенно, обнажив талантливую наивность своего персонажа, очарованного шаровой молнией революционных лозунгов... Роль его добровольной помощницы — малограмотной украинской девчонки — замечательно сыграла юная Елена Проклова. И хотя в фильме собрано целое созвездие лучших актеров, невозможно забыть Олега Ефремова (1927-2000) в роли художника-самоучки, столь же беззаветно и наивно преданного Искусству, как и Искремас…
Точно также остается в памяти блестяще срежиссированный и сыгранный эпизод, где импозантные белогвардейцы в исполнении известных режиссеров М. Хуциева, В. Наумова и К. Воинова играют с беднягой Искремасом в садистскую «кукушку», т.е. завязав себе глаза, вслепую палят в него из револьверов…
Сквозь смех и слезы в фильме А. Митты (сценарий Ю. Дунского и В. Фрида) с годами все отчетливее проступает мысль об иллюзорности надежд на Светлое Красное Будущее, о бессмысленности и жестокости братоубийственных войн, о том, что человека в этом мире может спасти только настоящая Любовь...
Структура стереотипов образа Белого движения в советском кино 1960-х годов
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1918 по 1924 годы, Россия.
обстановка, предметы быта: скромные жилища, форма и предметы быта советских персонажей, добротные жилища, форма и предметы быта белогвардейских персонажей (особенно — высшего командного состава).
приемы изображения действительности: реалистичное («В огне брода нет», «Служили два товарища», «Адъютант его превосходительства») или условное - в рамках комедии («Музыканты одного полка», «Интервенция», «Свадьба в Малиновке»), боевика («Таинственный монах», «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых») изображение жизни персонажей Белого движения.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи (красные) — носители передовых коммунистических идей; белые персонажи даны дифференцированно: с одной стороны, это традиционные отрицательные персонажи — носители антигуманных, милитаристских, монархических, буржуазных, империалистических идей («Сергей Лазо», «Исход», «Таинственный монах» и др.). С другой (как, например, в фильмах «Адъютант его превосходительства», «В огне брода нет», «Гроза над Белой», «Крах», «Операция «Трест», «Служили два товарища»), — это сильные и яркие личности, отстаивающие свои принципы и представления о чести, добре и зле.
Персонажей разделяет не только социальный, но и материальный статус. Белые одеты богаче бедных и скромных красных. Что касается телосложения, то здесь допускались варианты — белогвардейцы на экране (в зависимости от конкретной задачи) — либо обычные интеллигенты, либо атлетического вида мужчины.
При этом белые показаны уже не только грубыми и жестокими врагами, с отталкивающей внешностью, властной мимикой и жестикуляцией и неприятными голосовыми тембрами, но и (все чаще) — умными, обаятельными и харизматичными личностями.
Мужские персонажи, олицетворявшие Белое движение, по-прежнему доминируют, однако, среди врагов коммунистов встречаются и женщины, иногда красивые и обаятельные (например, в «Операции «Трест»)…
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи (представители Белого движения) путем насилия, обмана и подкупа (война, теракты, шпионаж, сотрудничество с интервентами, буржуазным империалистическим Западом и пр.), собираются воплотить в жизнь свои антикоммунистические, антибольшевистские идеи. Вариант: умные, обаятельные, мужественные персонажи Белого движения сражаются с красными за свои идеалы…
возникшая проблема: жизнь красных персонажей, как, впрочем, и существование большевицкого государства в целом под угрозой: под угрозой оказывается и жизнь обаятельных персонажей Белого движения, попавших под «красное колесо»…
поиски решения проблемы: борьба (разными видами и способами) положительных красных персонажей с (отталкивающими и/или обаятельными) белыми.
решение проблемы: уничтожение/арест белых персонажей. Более редкий вариант: самоубийство белых персонажей.
Новые приключения Неуловимых. СССР, 1968. Режиссер Эдмонд Кеосаян. Боевик.
исторический период, место действия: гражданская война на Юге России.
обстановка, предметы быта: скромные быт и одежда красных, добротная форма белогвардейцев.
приемы изображения действительности: условное изображение событий.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: белые показаны жестокими врагами крепкого телосложения, хотя порой при этом — умными, с обаятельной внешностью и приятными голосами А. Джигарханяна и В. Ивашова (персонаж последнего помимо всего прочего поет в кадре душевно-патриотическую песню «Русское поле»); красные изображены сугубо позитивно — это молодые, целеустремленные, сильные, честные борцы за коммунизм и большевицкую власть, с яркой лексикой, жестами и мимикой (один из них — Валерка-гимназист, впрочем, способен удачно мимикрировать под «своего» интеллигента в среде белогвардейцев).
существенное изменение в жизни персонажей: белые стремятся уничтожить красных, действующих у них в тылу…
возникшая проблема: жизнь красных персонажей под угрозой.
поиски решения проблемы: красные разрабатывают план уничтожения белых и кражи секретных сведений;
решение проблемы: красные одерживают победу…
Служили два товарища. СССР, 1968. Режиссер Евгений Карелов. Драма.
исторический период, место действия: гражданская война, Крым, осень 1920 года.
обстановка, предметы быта: скромные быт и форма красных, неустроенный быт белых офицеров, живущих в крымских гостиницах…
приемы изображения действительности: реалистические.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: снова, вслед за знаковыми фильмами 1950-х «Сорок первый» и «Тихий Дон», фильм Е. Карелова ломал сложившиеся в советском кино стереотипы того, что положительные персонажи (красные) — обязательно носители передовых коммунистических идей, а отрицательные персонажи (белые) — носители идей антигуманных. Красная комиссарша в блестящем исполнении Аллы Демидовой, не утруждаясь доказательствами, безжалостно расстреливала любого, кто казался ей подозрительным. Красноармеец Карякин (Ролан Быков) выглядел в фильме недалеким фанатиком. Красноармеец Некрасов (Олег Янковский) — симпатичным интеллигентом, оказавшимся с красными явно по причине романтических иллюзий. А поручик Бруснецов в исполнении Владимира Высоцкого был показан обаятельной, мужественной, сильной личностью.
существенное изменение в жизни персонажей: осенью 1920 года красные, сломив сопротивление войск барона П.Н. Врангеля (1878-1928), прорываются в Крым.
возникшая проблема: жизнь главных персонажей (белых и красных) — под угрозой.
поиски решения проблемы: Белые пытаются противостоять наступлению красных… Красные стремятся поскорее очистить Крым от белых…
решение проблемы: Крым захвачен красными. Остатки белой армии уплывают в Турцию. Некрасов и Бруснецов гибнут в братоубийственной гражданской войне…
Адъютант его превосходительства. СССР, 1969. Режиссер Евгений Ташков. Детектив.
исторический период, место действия: гражданская война, юг бывшей Российской империи, штаб белых.
обстановка, предметы быта: добротная обстановка и форма белогвардейцев.
приемы изображения действительности: реалистическое (насколько позволяли тогдашняя цензура и детективный жанр) изображение жизни персонажей.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: особенность фильма в том, что главным положительным (красным) представлен персонаж (актер Юрий Соломин), который, пробравшись в штаб белых, выдает себя интеллигентного капитана Кольцова (несколькими годами раньше Ю. Соломин сыграл своего рода эскиз к этой роли в незамысловатой комедии «Музыканты одного полка»). Непосредственный начальник этого «капитана» — не менее обаятельный, интеллигентный и образованный белогвардейский генерал (Владислав Стржельчик), отстаивающий свои принципы и представления о чести, добре и зле. Таких персонажей не разделяет ни интеллектуальный, ни социальный статус, это люди одного круга, оказавшиеся по разные стороны баррикад. У них хорошие манеры и изысканная лексика. Для контраста/баланса в фильме представлен также жестокий офицер белогвардейской контрразведки…
существенное изменение в жизни персонажей: обаятельный и интеллигентный Кольцов находится на грани разоблачения…
возникшая проблема: жизнь Кольцова оказывается под угрозой…
поиски решения проблемы: Кольцов пытается отвести от себя подозрения белых…
решение проблемы: Кольцов успешно выполняет задание красного штаба…
Период 1970-х годов
Общий социокультурный, политический и идеологический контекст 1970-х:
- десятилетие относительно стабильного существования страны, сопровождающегося торжественными празднованиями советско-коммунистических юбилеев государственного масштаба;
- политика «разрядки» международной напряженности при сохранении «идеологической борьбы» с «империалистическим Западом»;
- продолжение борьбы с инакомыслящими (А.Сахаров, А.Солженицын, В.Войнович и др.) и спад преследований по религиозным мотивам;
- продолжение индустриализации (в основном тяжелой и военной промышленности), полетов в космос (в том числе и совместная советско-американская космическая программа), массового жилищного строительства;
- продолжение интенсивного внедрения коммунистической идеологии;
- продолжение милитаризации страны, развязывание локальных военных конфликтов (в Африке и в Азии), начало интервенции в Афганистане (1979), поддержка, в том числе военная, прокоммунистических режимов в развивающихся странах.
Жанровые модификации: драма (военная, историческая), детектив, вестерн, реже — трагикомедия, мелодрама.
Стилистика большинства этих фильмов уже не определялась канонами «соцреализма». По отношению к теме гражданской войны в киносюжетах, несмотря на сохранившиеся штампы прежних десятилетий, произошли определенные изменения. Появились более мягкие модели трактовок гражданской войны, лишенные яростной беспощадности и категоричности лент 1930-х - 1940-х. Террор по отношению к классовым врагам по прежнему подавался со знаком плюс, однако все чаще акцент делался на его вынужденности, временности, иногда даже ошибочности.
Помимо весьма традиционных для этого направления экранизаций тех или иных прозаических произведений, в 1970-х снимались лихие приключенческие фильмы типа кровавых истернов Самвела Гаспарова, действие которых разворачивалось в эпоху гражданской войны, а взаимная ненависть враждующих сторон подавалась, как неизбежное жанровое условие игры. Истребление десятков людей на экране выглядело неким аттракционом с фонтанами крови...
В целом развлекательный спектр по отношению к теме гражданской войны в 1970-х, как и в 1960-х, занимал примерно одну треть этой части жанрового репертуара. Ведь зрелищная динамика вестерна или детектива позволяет показать необычные ситуации и резко очерченные характеры сильных героев. Однако «дурной традицией жанра стало то, что герою благородному, защищающему добро, как бы заранее ссужалось всемогущество. Он побеждал, потому что был чист, великодушен, сострадателен, а не потому, что это благородство и чистоту утверждал, доказывал на деле в ожесточенной борьбе со злом. Справедливость не воцарялась в результате напряженной схватки, она лишь демонстрировала через героя свою силу, автоматически запрограммированную авторами фильма. Даже враги как-то неожиданно начинали подыгрывать этому автоматическому всемогуществу справедливости. Сначала нам рекомендовали их как исключительно хитроумных, изворотливых, коварных. Но чем дальше, тем больше создавалось ощущение, что противники вдруг одурели, опешили, что слетала с них, как пух с одуванчика, вся изворотливость и хитроумность» [Михалкович, 1980, с.18].
Так на экраны 1970-х вышли кровавые «истерны» Самвела Гаспарова, действие которых разворачивалось в эпоху гражданской войны.
Уже в «Ненависти» (1977) отчетливо ощущалась склонность С. Гаспарова к стилизации, возникшая, возможно, под влиянием «Своего среди чужих...» Никиты Михалкова (он, кстати, совместно с Э. Володарским был и автором сценария). События гражданской преломлялись в фильме, будто сквозь туманное стекло. Приметы времени были стерты, и молодые актеры Евгений Леонов-Гладышев и Елена Цыплакова с видимым удовольствием и задором играли отнюдь не персонажей двадцатых годов, а своих сверстников, как бы перенесенных неведомой машиной времени на десятки лет назад.
Такая откровенная режиссерская ставка на развлекательность, минуя разработку характеров и отражение эпохи, казалась очень спорной.
В «Ненависти» проявилась и другая особенность его режиссерской манеры — стремление к внешнему эффекту. Так, пригласив на микроскопическую роль белого есаула актера Бориса Хмельницкого, отличавшегося броской внешностью, Самвел Гаспаров разворачивал целый эпизод с «русской рулеткой» (игра со смертью с помощью нагана) лишь для того, чтобы показать, как красиво есаул пустит себе пулю в лоб.
Вопреки своему названию следующий истерн С. Гаспарова — «Забудьте слово «смерть» (1979, сценарий Э. Володарского) был буквально нашпигован сценами убийств. Складывалось впечатление, что основное в фильме — то, как эффектно льются реки крови.
Сюжетные линии, были, мягко говоря, вторичными. Вместо характеров по-прежнему — одни лишь маски. Как и раньше, для режиссера главной была внешняя динамика, основанная на «железных» законах жанра. Увы, Самвел Гаспаров — не Серджо Леоне: попытки заполнить сценарные «пустоты» кровавыми перестрелками, где, в конечном счете, не важно, кто и в кого стреляет, превратили фильм «Забудьте слово «смерть» в заурядную потасовку на фоне гражданской войны...
В похожем ключе, только «малой кровью», были поставлены приключенческие фильмы Юрия Чулюкина «И на Тихом океане» (1973), «Поговорим, брат» (1979), где были и умные белые враги/шпионы, и лихие дальневосточные партизаны…
Еще один приключенческий фильм тех лет — «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1975, по роману Ю. Семенова), был поставлен Г. Кромановым в жанре детектива. Один из ключевых персонажей этой ленты — эмигрировавший в Таллин князь Воронцов, бросивший всё свое состояние на поддержку Белого движения. Поражение армий А.И. Деникина и А.В. Колчака не поколебали его убеждений. Он и в 1921 году готов бороться с большевиками всеми доступными ему методами, что «приводит волевого, образованного человека к связи с дном общества, к преступлению» [Эльманович, 1975].
Что касается более значимых картин о «далекой гражданской», то стоит отметить снятый по мотивам произведений Михаила Булгакова фильм «Бег», который, на мой взгляд, относится к лучшим работам режиссерского тандема А. Алова и В. Наумова. В этом фильме есть эпическая мощь, подлинный драматизм жестокой гражданской войны, горькая ирония, и даже печальная лирика... «Конечно, Алов и Наумов узнаются с первых кадров, — писал о фильме «Бег» С. Рассадин. — Они все такие же безудержные выдумщики. И все та же напряженность страстей, от которой, кажется, всего шаг до исступленности. И тот же интерес к переломам, взлетам, падениям — к роковым минутам жизни и истории» [Рассадин, 1989. Цит. по: А.Алов, В.Наумов, 1989, с. 146].