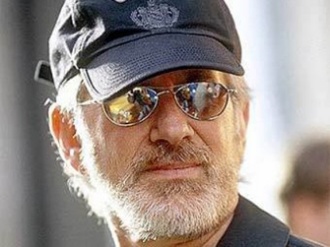Лично они никогда не встречались. Вообще, как известно, встречи кинематографистов со Сталиным — группами или поединично — бывали. Но Дзига Вертов чести не удостаивался, во всяком случае тому нет никаких свидетельств. Как нет и свидетельств, что Сталину были знакомы имя Вертова или его картины. В том числе и та, где вождю отводилось очень много места: женщины в жажде прикосновения тянули к нему руки, а по Красной площади радостные демонстранты несли перед ним его портреты высотой со Спасскую башню. Хотя с немалой долей вероятности можно предположить, что как раз фильм «Колыбельная» «лучший друг советских кинематографистов» видел. Но, повторяю, никаких подтверждений тому, никаких, хотя бы косвенных, упоминаний о реакции и оценке пока не обнаружено.
Однако Сталин, конечно же, знал Вертова. Знал, не зная. В том смысле, в каком «лучший друг народов» знал, не зная, всех нас вместе и каждого в отдельности. И даже испытывал к нам вполне определенное чувство, о чем когда-то точно написал поэт Борис Слуцкий в стихотворении «Хозяин» (подразумевая под «хозяином» Сталина): «А мой Хозяин не любил меня — не знал меня, не слышал и не видел. А все-таки боялся, как огня. И сумрачно, угрюмо ненавидел». Между тем для данного разговора важнее вторая сторона вопроса: знал ли Вертов Сталина? Понимал или хотя бы ощущал, догадывался ли, что такое Сталин?
Попытаться найти ответ на этот далеко не простой вопрос важно потому, что сегодня именно вокруг него хороводится множество мнений, своей запальчивостью часто не столько проясняющих, сколько затуманивающих истинное положение вещей. Поэтому-то поиск ответа требует спокойного, взвешенного учета и анализа по возможности разных обстоятельств творчества Вертова и его личной судьбы.
Если же какие-то обстоятельства отбросить, особенно малоприметные, и сосредоточиться лишь на тех, что лезут сегодня в глаза, ну, например, как в вертовской «Колыбельной» и в «Триумфе воли» Лени Рифеншталь передан восторг перед вождями, или на иных поверхностных деталях сходства двух тоталитарных режимов, то тогда, конечно, не стоит никакого труда поставить обе картины если не в один ряд, то, как это часто теперь делается, в один сеанс — в качестве наиболее выразительных и близких друг другу явлении тоталитарного кино.
Однако это детали сходства именно двух режимов. То есть самой действительности, определенных отрезков жизни, исторических эпох. Но вот вопрос: обязательно ли эти сходные признаки жизни, вбираемые в том и в другом случае экраном, являются свидетельствами и сходства фильмов? Авторских намерений?{}
Этот странный, таинственный, действительно трудно на первый взгляд объяснимый и до сих пор, как мне кажется, не объясненный факт заключается в том, что после «Колыбельной», то есть после картины, которая, как нынче принято считать, точно отвечала требуемым канонам нарастающего тоталитаризма и культа Сталина, Вертов практически навсегда потерял возможность творческой работы, был отставлен от нее. С этой точки зрения тридцать седьмой год, год двадцатилетнего октябрьского юбилея, к которому и была выпущена «Колыбельная», для Вертова тоже оказался убийственным, хотя в той лотерее, по предсказуемым законам которой жил народ, ему не выпало ни «вышки», ни гулаговских нар. Однако и без них жизнь нередко казалась невыносимой. {}
Какое-то объяснение, наверное, можно найти в человеческом, так сказать, больше психологическом, нежели кинематографическом пласте. Часть окружающих, обладая хорошим нюхом, видимо, угадывала, что этот некогда резкий полемист, задира, вожак, а теперь испуганный, молчаливый человек с затаенной печалью в глазах знает о них все: «Степенные не любят за то, что не степенен, беспринципные за то, что не беспринципен, чрезмерно деловитые и сребролюбивые за то, что недостаточно сребролюбив и деловит. О бездарностях и говорить не приходится. Они пытаются остановить художника, как останавливают часы, вцепившись в маятник».
Существует и другое, довольно распространенное объяснение, тоже впрямую не связанное с экраном, но опирающееся на обстоятельства, якобы влиявшие на процесс творчества, на сам характер бытования Вертова в кинематографической среде. Еще при жизни Вертова, но особенно после его смерти, некоторые станут утверждать, находя в этом ту или иную выгоду для себя, что Вертов не вписался в требования нового, строго регламентированного времени, просто отстал от него. Не кто-то, вцепившись в памятник, остановил его часы, а он сам остановил маятник своих часов, забыл, или не смог, или не захотел завести себя. Автор одной из книг, выпущенной в начале 70-х годов, опираясь, по его утверждениям, на свои беседы с давним «киноком», вертовским учеником Ильей Копалиным, не без напористости доказывал, что в конце 30-х и в 40-е годы Вертова перестали понимать вовсе не администраторы, а сами кинематографисты, что эпоха обогнала его, ушла вперед, а он так и остался во времени своих ранних манифестов. Особую краску такой напористости придает, между прочим, то, что автором книги с возвышенным названием «Немеркнущий экран» является бывший председатель Комитета по кинематографии А. В. Романов, сделавший немало для того, чтобы наш экран померк. Поэтому не удивительно горячее желание чиновника искать — пусть и в другие, не вертовские времена, искать ассоциативно—в черных делах «светлого» союза с самими художниками.
Однако самое, может быть, замечательное состоит в том, что подозрение, будто Вертов остался во времени своих ранних манифестов, содержит в себе действительную отгадку «тайны» вертовской судьбы вообще и его судьбы после «Колыбельной», в частности. Но те, кто придерживался такого подозрения, не сумели приблизиться к отгадке, поскольку всегда рассматривали верность Вертова старым манифестам, так сказать, со знаком «минус». Говорили о ней с интонацией снисходительно-сочувствующего похлопывания Вертова по плечу: остался верен и оттого отстал. А между тем что, как не верность принципиальным исходным точкам, помогла Вертову не столько отстать, сколько перешагнуть через то время, в которое он действительно не вписался, но вписаться, оказаться нужным в последующие времена? Ведь дата смерти Вертова, 1954 год, фактически оказалась датой его бессмертия, ибо именно с середины 50-х годов на волне так называемого «документального взрыва» о Вертове и его наследии заговорили кинематографисты всего мира. Печаль (а в перспективе — и радость) ситуации именно в том и состояла, что он не отстал от своего времени, а обогнал его.
Вместе с тем версия, что Вертов как бы сам остановил маятник собственных часов, могла бы при всей своей неточности выглядеть сегодня отчасти даже красивой, так как подразумевает сознательное самоисключение Вертова из тоталитарной эпохи, в которую для художника уж лучше было, хотя бы иногда, молчать, чем говорить и петь, чем играть на скрипке. Но будем честны: о подобном шаге он и не помышлял. Ибо то, что нам известно об этой эпохе сегодня, ему известно не было. Как не было у него того же понимания, какое теперь есть у нас. И поэтому он был уверен: стоит только получить заветную скрипочку, как он тут же вдохновенно сыграет своим смычком нужную всем — и начальникам, и широкой зрительской массе — музыку.{}
В 1933 году Вертов, целиком погруженный в монтаж огромного — снятого и разысканного в киноархивах — материала «Трех песен о Ленине», находит время написать «служебную записку» (в вертовском архиве она сохранилась в виде черновика карандашом) одному из руководителей студии «Межрабпомфильм» Зайцеву: «Настоящим делаю заявку на фильму «Она». Фильма следит за работой мозга композитора, пишущего симфонию «Она». Мысль композитора и вместе с ней фильмы движется от женщины капитализма к женщине социализма, останавливаясь на конкретных приметах сегодняшнего дня. Фильма кончается Марусей Б., награжденной орденом Ленина за покорение Днепра (название и тему прошу за мной закрепить). Более подробно развить тему не имею возможности до окончания Ленина. Москва, 25. III. 33. Д. Вертов».Документ интересен не только первым упоминанием о замысле будущей «Колыбельной», но и тем, что содержит одно, скороговоркой высказанное соображение, принципиально важное и для будущего вертовского фильма, и для истории вертовской жизни. И даже для истории неигрового кино.
Это соображение связано, видимо, с не до конца поначалу осознанным, но постепенно нарастающим у Вертова желанием, а после завершения «Трех песен о Ленине» (с их поразительными по естественности и живости синхронными монологами строителей Днепростроя) уже окончательно оформившимся стремлением перейти от картин обзорного типа к лентам, построенным на индивидуальных героях, их характерах и судьбах. Не случайны в «записке» слова о конкретных приметах сегодняшнего дня и о финале с Марусей Б. Уже был снят ставший вскоре знаменитым синхронный рассказ Маруси Б., бетонщицы Марии Велик. Не оставив его для фильма «Она» и включив его в картину о Ленине, Вертов тем самым и подтверждал стремительно растущую в нем жажду выйти самому и вывести неигровое кино в новую область — область конкретных человеческих судеб, человековедения. Причем выйти не с каким-то одним исключительным фильмом, что бывало в мировом кинематографе и раньше, достаточно вспомнить «Нанука» Р. Флаэрти. Но выйти, прокладывая новую магистраль, с целой обоймой картин, рассказывающих о конкретных людях. Вертовский архив буквально забит заявками на такие фильмы, написанными в конце тридцатых годов, в годы войны и в послевоенные годы. А записные книжки Вертова периода подготовки к фильму «Она» пестрят множеством имен и фамилий, адресов и телефонов женщин, которые могли бы стать героинями будущей картины. Вместе с тем именно после «Трех песен о Ленине» и в преддверии картины о женщине Вертов без устали бомбардировал киноначальство, главным образом Б. Шумяцкого, проектами «творческой лаборатории», прямо увязывал принципы ее работы со своими новыми намерениями.
Но ничего не вышло. Открытие новой страницы в неигровом кино отодвинулось примерно на двадцать лет, когда по экранам мира потоком пойдут картины с конкретным героем. Все заявки Вертова на фильмы о поведении человека отправлялись в корзину с одной и той же уверенной мотивировкой: фильмы о людях — дело игровых студий, а дело документальных — масса, людские множества.
Вертов, хотя и продолжал писать заявки на фильмы о людях почти до конца своих дней, тем не менее очень быстро и вполне трезво оценил ситуацию — еще за год до выпуска «Колыбельной»: «Между нашим решением перейти от поэм о строительстве, индустрии и сельского хозяйства к познанию человека в его движении, в его росте, в его поведении и выполнением этого решения встала стена аппарата (не съемочного, а бюрократического)».
Для понимания сути «Колыбельной» и того, что произойдет с Вертовым после ее выхода, оба эти момента важны: с одной стороны, решение Вертова перейти на экране к познанию человека, с другой,— стена, вставшая на пути такого решения.
Но прежде чем попытаться объяснить важность этих моментов, отметим еще одну деталь его торопливой «служебной записки» 1933 года: в ней нет ни слова о том, что будущий фильм связан со Сталиным. Вот о том, что сейчас снимаемый фильм связан с Лениным, Вертов говорил постоянно (в том числе и в этой «записке»). А о Сталине в «Колыбельной» — ничего. Правда, это можно объяснить датой письма: массовый религиозный экстаз по отношению к вождю еще не достиг того пика, какого достиг, когда делалась «Колыбельная», а кроме того, в этот момент вряд ли Вертову были ясны конкретное содержание и стилистика будущей ленты.{}
Более того, и после выпуска «Колыбельной» Вертов нигде — ни в публиковавшихся материалах, ни в дневнике — никогда, ни разу не связывал содержание картины с вождем, хотя ведь любое публичное подчеркивание подобного обстоятельства сулило определенные дивиденды. Но Вертов этого не делал отчасти в силу чистоты и честности натуры, совершенно лишенной интереса к такого рода выгодам. {} Однако Вертов после «Колыбельной» никак не играл на имени вождя и потому еще, что искренне был уверен: его фильм по содержанию и смыслу никакого отношения к «теме вождя» не имеет, имея отношение лишь к «теме женщины». Поэтому думается: если бы Вертов узнал все то, что сегодня говорится и пишется о «Колыбельной» как о картине, посвященной Сталину, прославляющей Сталина и тотальное поклонение ему,— он бы крайне удивился. Во всяком случае, в первый момент. Вертов был человеком умным и, поразмышляв, наверное, признал бы, что такие суждения не лишены основания. Но поначалу, повторяю, очень бы удивился. Ибо тогда, когда делал картину, и даже тогда, когда в процессе монтажа вводил в нее «сталинский материал», о Сталине, его прославлении, тем более прославлении тоталитарного режима, не думал, так как сосредоточенно и целеустремленно думал только об одном — о прославлении женщины.
Но почему именно женщины? Почему он к этой теме хотел возвращаться вновь и вновь? Ведь еще в картине о Ленине первая ее песня была посвящена женщине Востока, лицо которой недавно было в «черной тюрьме», было скрыто от мира черным чачваном. {}
То, что в «Колыбельной» сплошь одни женщины, вполне естественно. Кому же и быть на экране в картине с подобным названием? {} Строго говоря, женщина была в фильме даже не «темой», а предметом изображения, художественного исследования, так сказать, «материалом» фильма. Сквозной же темой была особо волновавшая Вертова тема человеческого счастья — уже, как казалось тогда, близящегося, даже, может быть, пришедшего, во всяком случае, уже в чем-то почти осязаемого. Вертов считал, что самые серьезные, самые наглядные социальные послеоктябрьские перемены на пути к человеческому счастью нашли свое выражение именно в судьбе женщины (особенно женщины Востока), наиболее забитого, темного, бесправного существа в дооктябрьские времена. Сегодня, с высоты нынешнего понимания прожитых эпох, можно дискутировать вопрос о раскрепощении Октябрем женщины, хотя, думается, и сегодня ответы — при всей горечи некоторых выводов — не окажутся однозначными. Но вчера, во второй половине тридцатых, для огромного большинства (не только для Вертова) тут и вопроса никакого не было. Была лишь уверенность или, скажем так: вера, при всех трудностях, неустроенности быта, тяжести труда,— в поворот женщины лицом к счастью. Потому-то и ленинский фильм, и следующая картина, и заявки на последующие ленты посвящались женщине.{}
Однако для реального и полного понимания «Колыбельной» следует со всей определенностью подчеркнуть, что субъективная уверенность автора в том, что он делает картину о женщине и ни о ком больше, отнюдь не означала, будто появившаяся в картине «сталинская линия» объективно не вела к воспеванию вождя, не отражала достигавшего экстаза всеобщего поклонения ему.
Если говорить о предпосылках появления «сталинской линии», то опять же рискну предположить, что, несмотря на решительный вертовский отказ от работы над двумя другими фильмами, эта линия (как и эпизоды гражданской войны в Испании — расстрелянные с воздуха матери и дети на улицах Мадрида, испанские дети, приехавшие в Советский Союз) возникла как отклик на те самые предложения. Только Вертов сделал не разные фильмы, а включил все в один. И не просто включил. Он слил «сталинскую линию» (как и испанские эпизоды), и слил со свойственной ему пластической, монтажной, музыкальной виртуозностью с главной темой фильма. Или, точнее говоря, подчинил главной теме — теме счастья, выражаемого современной судьбой женщины-матери. Окруженный восторгом масс, Сталин появлялся в картине как некая объективно существующая реальность. Как символ видимых перемен, происходящих в стране. Если нередко попадающееся на страницах вертовского дневника в контексте тех или иных событий и размышлений имя Ленина всегда окрашено личным чувством, то имя Сталина в тридцатые годы почти не упоминается. А если упоминается, то вне какой-либо эмоциональной окраски. Даже до сих пор не опубликованная запись о вроде бы возникшем на студии предложении поручить ему, Вертову, картину к 60-летию (1939) вождя носит чисто деловой характер.{}
Время шло величественное и строгое. Сталин становился самодостаточной «темой» вне каких-то там сопряжений с другими и подчинения некой иной сверхзадаче. Он сам — счастье!..
Сливая же рассказ о женщине со «сталинской линией», Вертов сплел, сам того не ведая, прочно угнездившийся в фильме клубок противоречий. Не откликнувшись на предложение о работе над картиной о съезде Советов и тем самым отказавшись разменять женщин на Сталина, он, введя Сталина в фильм, в известной мере разменивал Сталина на женщин. Нет, это не лежало на поверхности. Вряд ли те, от кого зависело дальнейшее пребывание Вертова в кинематографе, понимали это на совершенно сознательном уровне. Виртуозность мастера, казалось, сливала все линии фильма монолитно. И тем не менее они, наверное, ощущали здесь какой-то непорядок: или воспевай вождя или уж пой колыбельную песню. Ведь она-то и усиливала ощущение непорядка. И усиливала, на мой взгляд, вполне обоснованно. Чтобы понять это, следует со всей ясностью подчеркнуть, что недопущение в документальное кино фильмов о конкретных людях диктовалось не какими-то там «эстетическими», «методологическими» и тому подобными причинами, лишь прикрывающими такое недопущение, а совсем другим: укрепляющийся тоталитаризм в принципе отвергал индивидуальную выделенность. {}
Вертов же стремился к совершенно другому. Причем вовсе не тогда, когда захотел перейти к фильмам с конкретным героем, а всегда — с первых шагов в кино. Последняя вертовская статья, подводившая жизненные итоги, называлась, между прочим, «О любви к живому человеку». «В сущности, все, что я сделал в кино,— писал в ней Вертов,— было прямо или косвенно связано с моим упорным стремлением к раскрытию образа мыслей живого человека»
Свой неукротимый интерес к конкретному человеку, индивидуальности его проявлений Вертов донес и до «Колыбельной». Не получив возможности построить фильм на рассказе об индивидуальных судьбах, он тем не менее сохранил в «Колыбельной» идущий из глубин его жизни, из времен формирования его принципиальных творческих установок важнейший для понимания строя картины и ее судьбы, а главное, последующей судьбы автора мотив. Тот самый, который в процессе современных сокрушений просто игнорируется, но который тогда очень чутко уловили «хозяева». Это проходящая через весь фильм, составляющая, в сущности, его не только музыкально-пластическую, но и смысловую основу колыбельная песня.
Окрашенная не просто личным, а одним из самых интимных человеческих чувств, эта песня, соединяя исходно обыденное с вечным, выражала постоянное стремление Вертова к индивидуальному человеческому началу и новое его стремление к индивидуальному герою хотя бы и в фильме по-прежнему обзорного типа. Не случайно, говоря в своей последней статье об «образе живого человека», как бы собирающем в себе черты разных людей, он сослался именно на образ матери в «Колыбельной», которая по мере развития действия превращается то в русскую, то в испанскую, то в украинскую, то в узбекскую мать, качающую ребенка. При этом Вертов не удержался от того, чтобы и в этот фильм все-таки вставить коротенький эпизод, прямо отражающий его новое стремление к индивидуальному герою,— синхронный рассказ парашютистки о своем прыжке.
Таким образом, колыбельная песня в фильме «Колыбельная», весьма крепко настоянная на индивидуально-человеческих проявлениях действительности, помноженных на художественную индивидуальность Вертова, представляла собой, в сущности, совершенно ненужную, даже, может быть, недопустимую вольность. Тем более в фильме о вожде. Время, эпоха, ее вершители ждали от Вертова «Триумфа воли», а он снял — «Колыбельную». Разница в названиях вполне выражает разницу подходов, намерений, взглядов. Когда уже очень многие сообразили, что нужен именно «Триумф воли», Вертов с донкихотской наивностью думал, что все еще нужна «Колыбельная». Но поскольку фильм все-таки красиво выражал восторг вождю, то из его наивности не сразу сделали прямые и конкретные оргвыводы. Тем не менее, видимо, осевшее в головах начальства раздражение и послужило поводом к постепенному, но настойчивому оттеснению Вертова от творческой работы. Ибо после «Колыбельной» начальники учуяли, что требуемого от Вертова не получить. И что ныне от него не следует ничего ожидать. Или, вернее, от него можно ожидать того, чего ожидать по нынешним временам не следует. Так что пусть себе время от времени, не очень часто монтирует отдельные выпуски киножурнала «Новости дня», а к остальному близко не подпускать!{}
Вместе с тем, в ходе поиска ответа на вопрос, понимал ли Вертов Сталина и сталинщину, важно выяснить, ограничивалось ли такое понимание только спонтанными, интуитивными догадками или же рано или поздно оно приняло достаточно сознательные формы?
Совершенно очевидно, что в год выпуска «Колыбельной» понимание не шло дальше смутных предчувствий. Это подтверждает дневниковая запись, сделанная в начале 1937 года. 12 февраля (между прочим, день — через семнадцать лет — его смерти) сорокаоднолетний Вертов, впервые почувствовав острейшую боль в сердце, записал: «Сердце. Вот оно. Дребезжит. А ведь я — веселый. Только заперто замком веселье. Счастлив ли я? Счастлив. Не своим счастьем. Счастлив счастьем всех остальных. Я — исключение, подтверждающее правило». Вот мысль, к которой он в том или ином виде возвращался не раз. {}
Но очевидно и то, что в этой, несомненно, благородной, аскетически чистой и честной позиции был существенный изъян. Ведь исключая лично себя из правил всеобщего счастья, можно было в ходе расшифровки жизни не заметить, не расшифровать людей, которые, возможно, тоже были счастливы не своим счастьем, а счастьем других. И за таким счастьем прятали собственную печаль, считая себя исключением. А можно было в ходе подобного же исключения лично себя из правил всеобщего счастья легко отнести и кого-то другого к этому же исключению, скажем, соседа, которого разбудил требовательный ночной звонок.
Но не в подсознательном ли постепенном расширении зоны исключений, а следовательно, и возрастающем постепенно чувстве привыкания к ним — одна из трагедий эпохи, когда даже «исключительная мера» становилась обыденным правилом жизни?..
Все это говорится опять же не в оправдание и не в укор Вертову, а в объяснение.{}
Тем не менее с годами Вертов приближался к сути происходящего и приближался вполне сознательно. Правда, в эти годы он уже практически не снимал. Но поверял, как всегда, свои мысли дневнику. К сожалению, в нем немало купюр, сделанных сразу после его смерти Свиловой, она сама мне об этом рассказывала, инстинктивно понизив — а это было не в начале 50-х, а в начале 70-х — голос до шепота: «Там было про Сталина...»
Однако сохранились стихи. В довольно большом как бы вступлении в поэму он рассказывает, о чем бы следовало в поэме поведать. В частности: «О тех, кто рос, кто соску сос и кто тащил за возом воз. И как возник такой вопрос. Как «SOS». Или еще: «Об убытке и о прибыли. О том, какой в наживе толк. И почему все еще живы мы, и почему туда мы прибыли, где человек человеку волк».
Здесь уже речь не о своем несчастье, как исключении из правил всеобщего счастья. Не о себе. А о возникновении такого вопроса, как «спасите наши души». И о том, почему мы прибыли туда, где человек человеку волк. Это написано не во времена горбачевской перестройки, это написано в конце сороковых или в самом начале пятидесятых.{}
Думается, ему помогало постепенно, но гораздо раньше, чем многим, во всем этом разобраться — пусть уже не на экране (на экране все равно было бы невозможно), а в дневниковых записях, стихах — то, что очень давно, в самом начале пути было заложено в основание его теории и практики: достижение скрытой за обыденной «кожурой» фактов их сердцевины и каких-то закономерностей их взаимосвязи. Это и есть та самая «верность первым манифестам», которая уберегла Вертова от того, чтобы после наиболее противоречивой своей картины, после «Колыбельной» все-таки, не стать тем, кем стала в Германии времен нацизма создательница «Триумфа воли».
...В дневнике Вертов не раз писал о своем ощущении, что его не любят, только не мог никак понять, за что. Это ощущение нелюбви наводило его на грустные размышления: «Как-то не хочется кончать жизнь « зоне безмолвия и равнодушия». Вертов не подвергся репрессиям, но какое точное определение своего положения он нашел в этой записи — «зона». Он не понимал, за что его не любят, хотя ему казалось, что он знает, кто именно создал эту «зону» равнодушия и нелюбви,— его кинохозяева. На самом же деле, то, конечно, была нелюбовь не этих мелких «хозяев», а «хозяина» главного. Мелкие лишь услужливо выполняли его волю. До оттепели, доклада Н. Хрущева на XX съезде Вертов не дожил двух лет. Думается, он встретил бы их с надеждой. И наверное, тогда ему бы пришлись по душе слова, какими закончил в предчувствии оттепели Б. Слуцкий написанное в год вертовской смерти упоминающееся в начале статьи стихотворение «Хозяин»:
И нынче настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят.
Лев Рошаль
«Искусство кино», 1994 год, № 1
Стр. 104-113