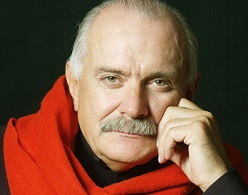Путь Рихарда Зорге в Японию, к месту своей работы разведчика, был долог: Германия, Атлантика, США, Тихий океан...
Шандор Радо сначала попробовал пустить корни в Бельгии. Не удалось. Тогда он, по намеченному плану, перебрался в Швейцарию. И тут не сразу все пошло гладко: надо было найти поручителя, типографию, открыть картографическое агентство, снять подходящую квартиру. Только после этого он смог сообщить в Москву, что все готово, и он ждет радиста.
Ландьел прибыл в Англию из Канады, после более чем годового вживания и отработки легенды.
В беллетристическом жизнеописании реальных биографий реальных разведчиков авторы вынуждены, из верности документам, уделять внимание тому, что обычно остается за пределами художественного повествования о секретном агенте, — пути героя к месту будущей работы.
В структуре истории секретного агента такого рода преддействие считается излишним.
В реальности, как совершенно очевидно, дорога к месту будущих событий — уже событие, она требует ума, усилий, хладнокровия, надо считаться с опасностью ничуть не меньшей, чем будущая, на назначенном месте. В известном смысле дорога даже более опасна, ибо чревата самыми нелепыми, незапланированными случайностями. Однако опасность такого рода, несет в себе слишком малый потенциал для художественно-игрового преображения реальности в духе приключенческого повествования. Ибо герой еще не приступил к выполнению некой, заранее намеченной задачи, не наметил себе человека-цель и человека-средство, не обзавелся помощниками, самое главное, еще не столкнулся лицом к лицу со злодеем, своим антиподом в профессиональном и идейном отношении. Лишенная этих основных элементов, история агента оказывается в вакууме.
Может ли основой приключенческой интриги стать, например, промашка со стороны агента? Разоблачающая его неожиданная встреча? Необходимость обойти особую строгость береговой службы? Провал связника?
Разумеется, может. Только поданная таким образом история агента трансформируется в детектив или триллер, пусть опять-таки «из жизни шпионов». Тут свой набор структурно-значимых элементов, свои каноны и традиции, свой собственный хронотоп. А если, упорно желая развернуть полноправную историю секретного агента в период ее дорожного преддействия, мы привнесем в детектив, заявленные выше структурные элементы, тогда преддействие перестает быть собой, станет произведением с примечательным отступлением от схемы, а именно: испытание выпало на долю героя просто-напросто раньше обычного.
Знаки границы
Комсомольцы Безайс и Матвеев получили ответственное задание. Из Читы им надо перебраться через линию фронта, в таежный партизанский штаб, доставить туда деньги и шифровку. Путь долог и труден, сопровождается житейскими неурядицами и острыми, драматическими приключениями. Проще всего ехать в пустом и теплом агитвагоне. Когда вагон отцепляют и реквизируют, можно вскочить в поезд, переполненный бузотерами-анархистами. Дело, задание, операция, зависящая от шифровки и кредитов, всего важнее. Вот почему суровый, жестковатый Матвеев, видящий в революционном долге высшую меру человечности, предпочитает тихо, скромно, ни во что не вмешиваясь, сидеть до поры в своем уголке. Юный Безайс рассуждает иначе. Как же не иступиться за девушку, к которой назойливо пристает подвыпивший верзила? Шум, драка, скорый суд. И Безайс, и плачущая девушка, и разъяренный на все это «мальчишество» Матвеев выброшены из теплушки. Похоже, что до самого Хабаровска придется теперь чапать на своих двоих...
Роман Виктора Кина «По ту сторону» писался, что называется, по горячим следам и был одним из самых первых художественных откликов только еще складывающейся советской литературы на события гражданской войны. Роман напряжен, динамичен, богат происшествиями. Он посвящен подпольщиками, готовящим восстание. Чуть ли не каждая его страница несет подробности подпольного «быта» и «кухни» разведческого дела: шифры, пароли, конспиративные квартиры, листовки, диверсии... Но, строго говоря, молодой автор не воспринимал свое творение как приключенческое. Жизненные реалии, позже ставшие элементами художественных структур определенного типа, пока что выступают в собственной своей роли, как реалии именно данного жизненного пласта. Все пока очень серьезно, требует обстоятельного объяснения. Оно не рассчитано на знакомство читателя со сходными подробностями по другим книгам, не проецируется на сложившуюся традицию восприятия, без сознательного учета которой не может работать автор типично приключенческого произведения.
Герои Виктора Кина, сравнительно опытные для своих молодых лет, действуют без малейшего налета профессионализма. Они не знают, как полагается вести себя в подобных ситуациях. Они даже не подозревают, что такое знание, единое на все случаи подпольной жизни, может прийти к нормальному человеку из плоти и крови. Собственно, несовпадение живых, объемных, психологически выписанных характеров и жестокой однозначности напряженной фабулы как раз и порождает драматизм развертывающегося повествования. Ибо перед нами не «литература-игра», а полноправный, полнокровный роман, с самых разных сторон освещающий одну и ту же авторскую идею — существование человека вне закона, вне общепринятых представлений о честном и нечестном, моральном и неморальном вовсе не означает еще, что нравственность для него отменена или стала условностью, прикладной функцией от задачи, когда большая цель, ощущение «общей пользы пролетариата» оправдает что бы то ни было. Молодой писатель не склонен отделываться в этом серьезном вопросе сладкими байками и дежурными утешительными девизами. Нет, он видит, что вопрос непрост, он не отворачивается от грязи и крови, от пошлого и даже обыденного аспекта, в котором открывается его героям антитеза, сформулированная еще Достоевским, — насчет «билетика в рай» и «слезинки замученного ребенка»... Тем большим запасом истины обеспечен идейный, нравственный итог книги.
Когда в 1958 г. «Мосфильм» экранизировал «По ту сторону» (реж. Ф. Филиппов), на первый план, как и следовало ожидать, вышла как раз приключенческая интрига. Характеры поблекли, стали трафаретными, знакомыми, плоскими, а сама авторская мысль полиняла до уровня дидактической морали, цепляемой к басне, вовсе ее не содержащей.
С Виктором Кином произошло то, что ежегодно, в самых разных странах мира кинематограф проделывает с Фенимором Купером, книги, которого развивая традиции исторического романа Вальтера Скотта, были серьезным, эпическим, философски-историческим истолкованием страны, эпохи, старательно коллекционировали человеческие типы и красочные нравы пограничной полосы меж двух цивилизаций. На сломе общепринятого и привычного, на ничьей земле между коллективными нравственными программами пришельцев и аборигенов с особенной силой открывалось, что есть человеке сам по себе, в возможностях, желаниях, в страстях и самозапретах. Мир, воссозданный Купером с неторопливой, скрупулезной, так и хочется сказать, — «фотографической» доскональностью, был ареной сшибки нравственных императивов, исследованием потаенных глубин душевных движений ...
Кинематограф, эксплуатирующий сюжеты «Следопыта» и «Зверобоя», «Кожаного чулка» и «Последнего из могикан», превращает их в апофеоз энергичной предприимчивости простого, не особенно размышляющего человека.
При таком понимании кинематографического действия, естественно, из структуры произведения легко вылетают многостраничные диалоги и монологи, старательные и долгие описания, вообще вся, условно говоря, информативная часть. Путь от литературы к «литературе-игре», как и путь от серьезного, взрослого, «первого» кино к многообразным игровым киноструктурам, неизбежно сопровождается количественным, а главное, качественным уменьшением элементов «ознакомления». Подчеркнутая экзотичность обстановки, будь то памирские оледенелые хребты или холодные коридоры штаб-квартиры СД, связана, как мы увидим ниже, не столько с желанием просветить, сколько со стремлением удивить, озадачить, необычное открывается в странном (Борис Горбатов, например, в цикле очерков «Обыкновенная Арктика» писал о корове в Заполярье — принцип, характерный как раз для серьезной литературы), а причудливое, незнакомое так и остается в каждой своей подробности особым, решительно ни на что не похожим, тем самым как бы открывающим возможность и даже вроде бы вынужденность сюжета-игры.
Но вот что интересно — кинематограф разное вымывает из художественной ткани «Прерий» или «По ту сторону». Из куперовских сюжетов бесследно исчезает все, что связано со статикой, зато эпизоды дороги, путешествия, преследования или бегства разрастаются несообразно ни с чем. В фильме «По ту сторону», напротив, как раз путь к месту подпольной деятельности Матвеева и Безайса был сокращен до минимума,зато возникли новые, не планировавшиеся романистом сцены до и после путешествия и значительно подробнее оказались разработанными обстоятельства, кажется, очень мало интересовавшие автора: подробности белогвардейской оккупации Хабаровска, например.
Какое-то глубинное течение разводит, разносит, противопоставляет эти два принципа отбора материала, как только серьезное, высокое произведение искусства перерабатывается под привычные беллетристические каноны.
Мотив дороги вовсе не обязателен в традиционном вестерне и все же не противопоказан ему. Во многих кинематографических историях о Диком Западе сквозным сюжетным действием гонят скот, едут фургоны переселенцев. Бессмертный «Дилижанс» Дж. Форда (в советском прокате — «Путешествие будет опасным») гармонично сплавил мотив путешествия со всеми традиционными для вестерна фигурами и ситуациями: дорога сводит и разводит людей, превращает чужака в приятеля, незнакомца в противника пли друга на всю жизнь, врага в союзника перед более сильной опасностью. Система происшествий, в там числе и обыкновенных дорожных препятствии, становится испытанием мужества и доброты каждого из отправившихся в путь. Один получит в конце пулю, другой — любимую девушку и прощение шерифа.
Попробуем подсадить в дилижанс засекреченного агента. Это сделали сценарист Н. Фигуровский и режиссер С. Самсонов в фильме «Огненные версты» (1957). Композиция «дорожного вестерна», ученически скопированная с «Дилижанса», нисколько не пострадала от того, что в одном и том же экипаже оказались рядом чекист, едущий к своим, на помощь осажденному городу, и замаскировавшийся белогвардеец, торопящийся туда же, только с противоположной целью — возглавить восстание против большевиков. Сюжетная структура не то чтобы выдержала, устояла, не поддалась вмешательству мотива, рожденного на чужой территории, она просто-напросто не заметила его чужеродности, мгновенно и естественно подчинив своим собственным формально-содержательным закономерностям.
Не знающая полноправного, развитого использования мотива дороги, история секретного агента выработала свои формы сокращенного, знакового отражения путешествия героя к месту выполнения задания. Владимиров-Исаев из романа «Пароль не нужен» добирается на Дальний Восток тем же путем, что и Безайс с Матвеевым, однако авторский рассказ об этом путешествии становится пунктирным: беседа в Москве с Дзержинским, беседа на полпути с Блюхером, выход на связь из-за кордона. Еще раньше, в романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата», Владимирова послали в буржуазную Эстонию, и снова после бесед-наставлений на Лубянке и перед встречей со связным в Ревеле повествователь упомянул об одном-единственном моменте путешествия, а именно — о пересечении границы.
Эмиль Боев, герой «Большой скуки» Богомила Райнова, добирается из Софии до Стокгольма без спешки, кружным путем, через Италию. Этого требует легенда, запутывающая следы, этого требуют обстоятельства — Боеву еще надо проштудировать толстую папку с материалами по интересующим его делам. Автор воспринимает время поездки как не потерянное для героя, но потерянное для нас, читателей, и пересказывает его события обобщенно, условным контуром.
Даже момент пересечения границы, иногда старательно подчеркиваемый в прозе и фильмах, привлекает внимание вовсе не реальной трудностью, не потому, что требует мобилизации сил, не потому что риск здесь особенно велик или паспорта с легендой первый раз проходят проверку. Дело не только в этом, а скорее всего, и вовсе не в этом. Преодоление границы важно именно как момент перехода из одного мира в другой. Достаточно вполне условного, чисто знакового упоминания, однако чаще всего в упоминании находим значительную метафорическую нагрузку.
В «Подвиге разведчика» (сцен. М. Блеймана, К. Исаева, М. Маклярского, реж. Б.Барнет, 1947), например, мы не видим всего пути капитана Федотова из кабинета начальника, где он получил новое задание, в немецкий город. Из череды дорожных событий нам показали короткую, на восемь экранных секунд, сценку в самолете: летчик дает знак — пора, Федотов пожимает ему руку, прыгает в люк и скоро в сумрачном, темном небе мелькнул и скрылся маленький, едва заметный хрупкий купол парашюта.
Мы не видели, как взлетал самолет, не увидим, как приземлился парашют. Зарыл ли его разведчик в землю, утопил ли, привязав для тяжести булыжник? Сам ли, с помощью каких уловок добрался до города или в назначенном месте дождался кого-то из помощников? Где, когда, при каких обстоятельствах он переоделся в свой новый костюм? Материала более чем достаточно, чтобы сочинить волнующее сюжетное напряжение. Сценаристы фильма, однако, хорошо понимают, что такого рода напряжение недорого стоит. Структура, стремящаяся к целостности, безжалостно отбрасывает любые, даже волнующие околичности. В данном случае отброшено все, что в истории путешествия не имело образного, символического характера. Мы увидели последнее рукопожатие с нашим человеком, отрыв-прыжок от нашего самолета и хрупкую фигурку, одну-одинешеньку в чужом, враждебном, темном, ветреном, неприспособленном для нас, хаотически-взметенном мире. Чтобы в следующем эпизоде, когда со стэком и с моноклем в глазу якобы безмятежный Федотов, теперь уже под личиной немецкого коммерсанта, пройдет по улице оккупированного городка, мы поняли, чего ему стоит каждая минута спокойствия, каждый миг существования там.
Позже на помощь Федотову будет отправлен связной с рацией. И — прекрасная режиссерская находка! — микросценка в самолете повторится во всех подробностях. Жест пилота, рукопожатие, прыжок в люк, маленький купол парашюта в ветреном, темном, затянутом тучами небе... И крик, дикий, животный, наглый крик шефа гестапо фон Руммельсбурга, страшный тем более, что до сих пор этот человек ни разу не выходил из себя и говорил, не разжимая губ, с медлительной, всепрезирающей монотонностью (отличная роль Михаила Романова). Теперь эта сыскная машина, этот никогда не выдававший своих чувств человек, истошно кричит. Позвоночник его по-прежнему чрезмерно прям, руки хранят прежнюю неподвижность, рот искривлен и брызжет слюной. Сходство с роботом утрачено не совеем, но сквозь это сходство проступают звероподобные черты.
РУММЕЛЬСБУРГ. Но вы нашли при нем радиопередатчик?
ОБЕРШАРФЮРЕР. Да, эксцеленц.
РУММЕЛЬСБУРГ. Значит, он шел для связи?
ОБЕРШАРФЮРЕР. Так точно, эксцеленц.
РУММЕЛЬСБУРГ. К кому он шел на связь?
ОБЕРШАРФЮРЕР. Я задал этот вопрос.
РУММЕЛЬСБУРГ. Hу?
ОБЕРШАРФЮРЕР. Он молчит, эксцеленц.
РУММЕЛЬСБУРГ. Задайте ему этот вопрос еще раз, и пусть он заговорит.
ОБЕРШАРФЮРЕР. Слушаюсь!
РУММЕЛЬСБУРГ. Выжать из него все! Выжать!
А перед ним, перед этим драконом гестапо, князем тьмы стоит наш человек, избитый, с перевязанным лбом, без гopдой, героической осанки, без сжатых зубов, романтически закусанных губ, с глазами, совсем не сыплющими презрительную ненависть.
Режиссер верно почувствовал, что сатанизму надо противопоставить человечность, манекенности — естественную, жизненную интонацию.
Он поник головой, наш радист, ему трудно стоять, трудно дышать, трудно слышать весь этот крик, и ему совсем не хочется умирать. Но выбора для него нет — в этой естественности бессловесной смерти больше величия, чем во многих финальных речах погибающих кинематографические героев той поры.
Таким образом, путь радиста дан пунктиром, тремя точками, две из которых полностью совпадают с маршрутом майора Федотова, и только третья так печально рознится.
Семантика вторжения
В одной программе студенческого КВН был заковыристый вопрос: «Как лучше всего переходить границу? Ответ западал в душу: «Границу лучше всего переходить в толпе».
Звучит парадоксом, но иногда и парадоксы сбываются. В венгерской эксцентрической комедии «Воробей тоже птица» показан совершенно нелепый и потому удавшийся побег: во время трансъевропейских велосипедных гонок герой, надев соответствующую майку с номером, выскакивает из кустов недалеко от австро-венгерской границы и, замешавшись в группу гонщиков, проходит вместе с ними контрольно-пропускной пункт; последнего, сверхпланового гонщика пограничники задерживают, к полному изумлению бедняги.
Толпа, хоть и небольшая, но была.
В «Ошибке резидента» (сцен. О. Шмелева, В. Востокова, реж. В. Дорман, 1968) и ее продолжении — «Судьбе резидента» (1970)мы находим два вида нелегальных уходов за нашу границу. Первый — через нейтральные воды, на лодке, под покровом тьмы, с перестрелкой, когда показался катер пограничников (но пограничники в курсе и стреляют только для конспирации, чтобы облегчить возможность нашему агенту Бекасу на плечах вражеского агента проникнуть в зарубежный разведцентр). Второй уход — графа Тульева, переродившегося и идущего за кордон, к бывшим своим хозяевам с заданием отсюда, — куда проще. В Одессе, когда иностранные туристы рассматривают катакомбы, один из их группы исчезает, а его место занимает Тульев, тоже в плаще и в черных очках. Кто надо, на судне предупрежден. Да поди, запомни каждого в лицо, когда этих туристов — десятки! Снова, как видим, границу переходят в толпе. В последнее десятилетие во многих фильмах показывается способ, каким осуществлен переход границы, но сама граница, сам момент перехода не показаны.
Прежняя жесткая оппозиция двух земель, миров, двух вселенных, толкавшая к усилению семантического и символического звучания границы, сегодня сменилась ощущением дела, профессиональной операции, рабочего процесса.
В фильме «Акваланги на дне» (сцен, и пост. Е. Шерстобитова, 1968), «Игра без ничьей» (сцен. К. Исаева, Л. Алексидзе, реж. Ю. Кавтарадзе, 1966) шпион выходит на нашу территорию в плавках. На подводной лодке он пересек морскую границу, затем плыл с аквалангом и на берег вышел как один из тысячи купальщиков, против которых какие же могут быть подозрения.
Берег стал «и.о.» границы. И потому, что по ночам его патрулируют, а днем держат под наблюдением. И потому, что первые шаги шпиона по нагретой гальке или по мягкому песку — самые трудные. Его голизна в данном случае — маскировочный наряд. Действует такой наряд безотказно, но лишь в районе пляжа. По улице не пойдешь в одних купальных трусах. Нужен сообщник. В «Аквалангах» этот сообщник в точно назначенный час в условленном месте оставляет торбочку-рюкзак, там одежда, деньги, документы. В «Игре без ничьей» сообщник ждет у транзистора, откуда льется мелодия-пароль. Приемник настроен на одну-единственную станцию (что может вызвать подозрение), и эта станция в нужный час передаст нужную музыку (что тоже довольно громоздко). Но главное для нас — что и тут момент пересечения границы двух противоположных миров становится неопределенным, не привлекает особого внимания повествователя, весь интерес которого теперь сосредоточен на технике дела.
Было бы наивностью думать, что со временем переходить границу становится легче. Полагаю, что никак нет. Скорее, наоборот. Изменилось иное — интонация рассказа об этом стала трезвой, будничной, патетические обертоны отошли на задний план. В особенности, вдвойне или втройне правы бывают фильмы, основанные на документах.
В «Крахе», двухсерийном фильме о Савинкове (сцен. В. Ардаматского, Э. Смирнова, реж. В. Чеботарев, 1968), границу переходят не меньше десятка раз - и туда, и обратно, наши, и враги, и наши, притворяющиеся врагами, и враги, притворяющиеся нашими. Ходят по одиночке, вдвоем, втроем. Савинков — даже в сопровождении личного секретаря и его жены. «А вон за тем кустом — русская земля», — негромко предупреждает провожатый. Идущие вглядываются: «Где? За каким? За этим?». Им вольготнее дышится, им кажется, что воздух родины иначе пахнет... Но с какого именно миллиметра начинается родина, они, естественно, не могли бы указать. В «Крахе» действуют люди, для которых переход. границы остался трудной рабочей операцией, но почти потерял прежний волнующий ореол. Дело, соображения целесообразности потеснили философическую поэзию. Вот посланца в Париж, к Савинкову, чекисты (под видом подкупленных служак) сдали с рук на руки польским пограничным офицерам, а те с благословения собственного начальства доставляют его к порогу белоэмигрантского центра. Тем же коридором, только в обратном направлении, прейдет позже, Фомичев, проверяющий от Савинкова, а те, кто примут его в свои руки на советской стороне, должны, проведя его чуть не по всей стране, разыгрывать из себя подпольных контрреволюционеров, держать опекаемого в строгости и страхе, но вместе с тем избыточно пользоваться страховочной техникой, всеми положенными сигналами, явками и паролями. Он перешел границу, но как будто и не переходил — он убежден, что все еще среди своих, в относительной безопасности, без прямого соприкосновения с миром советским.
В «Операции «Трест», четырехсерийном телефильме реж. С. Колосова по роману Л. Никулина «Мертвая зыбь» (1967), нескольких эпизодов отведено «окну», через которое водил туда и обратно лидеров «Треста» Тойво Вяхя, он же Иван Михайлович Петров. Рядом с молодым актером, исполняющим эту роль, изредка появляется и он сам, прототип, дающий иногда пояснения происходящему. Постановщик телефильма рассказывает об этом человеке:
«Да, двацатичетырехлетний Вяхя блестяще сыграл роль подкупленного стража. Сначала — перед видной участницей контрреволюционного подполья Захарченко-Шульц и еще некоторыми другими врагами Советской власти, а затем… Затем член коллегии ОГПУ полномочный представитель ОГПУ по Северо-западной области С. А. Мессинг сказал Вяхя: «Для нас тот господин в сотни раз важнее Савинкова!». Этим господином был Сидней Рейли. И перевел его через границу Тойво Вяхя. Перевел, сдал на руки чекистам, тоже игравшим роль членов могучей подпольной организации Трест».
Но самое страшное было впереди. По условиям дальнейшего развития операции, Вяхя должен был быть арестован как изменник. Арестован перед лицом своих подчиненных, начальников и друзей. «Я их любил, я их уважал и они меня тоже любили», — вспоминает он об этом в своем интервью в нашем фильме. Страшное испытание человеческого духа! И еще драматичнее: в Ленинграде пущен слух (так надо чекистам), что Вяхя расстрелян. «Тойво Вяхя исчез навсегда!» — говорит он в том же интервью.
За свой подвиг в операции «Трест» Тойво Вяхя отмечен высшей и единственной тогда в стране наградой — орденом Красного Знамени. И номер у того ордена совсем маленький: 1990, приказ о награждении подписан М. В. Фрунзе.
Но носил этот орден человек с другим именем и фамилией — Иван Михайлович Петров. Тридцать восемь лет жил Тойво Вяхя в своей стране под чужой фамилией».
Он, Вяхя, переводил на ту сторону и с той стороны Якушева, «своего», и он же вел врагов — Радкевича, Захарченко. С ними было несладко, с каждым по-разному. Захарченко, например, требовала безоговорочного повиновения. Однажды, уже у самой границы, она заявила, что в пути, при падении с саней, она уронила в сугроб пистолет и требовала возвращения. «Я отказался: пограничная полоса не для прогулок!». Она настаивала, даже грозила расправой и сдалась лишь после того, как я заявил, что никого больше через границу переправлять не буду, раз они совершенно не считаются с моей безопасностью. Потом мне сообщили, что в письме из Парижа она меня похвалила — «осторожный и упрямый человек». Возможно, что дело с пистолетом и было одним из приемов проверки меня: если я поеду от границы назад в тыл из-за пистолета, значит, вовсе не боюсь этих переходов и дело нечисто. В таких вещах она знала толк!». Вспомним фильм реж. А. Иванова «На границе» (1937). Странно, да, пожалуй, и вовсе невозможно при самой пылкой игре воображения представить себе персонажей оттуда аналогичной ситуации. Там граница не только заметна, определена. Она оказывается границей миров, и ничего удивительного, что разделяет эти миры река, на манер Стикса (который звучит метафорой только для сегодняшнего нашего умонастроения, а в давние годы так и мыслился рекой, вполне географическим понятием, отделявшим живых от мертвых, «осмос от хаоса, «наше» от «чужого»). Провести врага — из чувства пылкого патриотизма — в соответствии с распоряжением начальства самой тайной тропкой, да еще искать у него, у врага, симпатии!..
Для мира, встающего на экране фильма А. Иванова, для его модели вселенной из двух лежащих рядом, но не соприкасающихся, а бесконечно отталкивающихся миров — решение подобной ситуации было бы однозначно. Измена! Безусловная, страшная, катастрофическая по возможным последствиям измена. Если изменник не Тойво, значит, тот, наверху, кто приказал ему так вести себя по отношению к врагам.
Прислушаемся к нижеприводимым словам — мы будто увидим сценку из такого фильма, поставленную, однако, не действительностью, а лукавыми и опытными постановщиками.
«Не от маминых рук я попал в пограничные войска, кое-чему научила и работа по заданиям «Треста», но такое решение меня потрясло: значит, всему, что было ранее, — крест, и все сначала ...
Оговорили на совещании все детали «убийства» Рейли... После этого Мессинг и Салынь как-то умолкли и беседу вели другие, в частности, прибывшие из Москвы. Оказывается, что для придания фиктивному убийству Рейли неоспоримой убедительности нужны и мое исчезновение и фиктивный арест.
После «убийства» Рейли и моего «ареста» завернули в Старый Белоостров, где в здании пограничной комендатуры уже были в сборе все местное командование и мои ближайшие, теперь уже бывшие, друзья. «Убитого» оставили в машине под охраной шофера; но поместили его так, что ноги высовывались из кабины и висели на подножке.
Встреча со знакомыми в здании комендатуры была одним из самых мучительных испытаний за всю мою жизнь. И как хотелось мне обнять этих дорогих мне людей и сказать: «Не верь, друг мой, не верь! Все это комедия. Ваш я, друг я вам и товарищ!».
Но вместо этого я плакал и просил пощады».
Трудно отделаться от впечатления, что ты разом видишь всю сцену как бы с двух точек зрения. В нашем кинематографе эти две точки зрения оказались свойственны разным периодам с дистанцией почти в сорок лет.
Миры по вертикали
Можно без большого риска сказать, что путь от «приключенчества» к фактурному жизнеподобию, к ощущению «как в жизни» заставляет создателей повестей и фильмов почти автоматически, без размышления отключать метафорическую, символическую сферу рассказа. Здесь задача предстает перед героем во всей своей конкретности. Здесь река — река, а не Стикс, гора — гора, а не Синай, роща — роща, а не тот загадочный лес, в котором заблудился Данте, свой жизни путь пройдя до половины.
И, напротив, когда повествование строится совсем в иной тональности, по канонам заемного, игрового драматизма, ощущению «как в жизни» решительно предпочитается ощущение «вы только подумайте» или даже откровенное «как в сказке». В этих случаях подсветка привычных мифологических значений не только не редкость, но даже как бы является сама собой.
Сказка — сравнительно позднее порождение устного народного творчества. Она явилась в эпоху обесценения и распада архаических мифов о первопредках — культурных героях. Сказка, в особенности ее фантастическая область, позволяет без труда проследить свои мифологические истоки. Как отмечает исследователь фольклора, семантика сказки — «та же мифологическая семантика, но порой уже оторванная от племенных верований и принявшая некоторую поэтическую условность, а также испытавшая известный сдвиг от космического к социальному и индивидуальному»2». Мифологическая логика, которой оперирует сказка, метафорична, символична, она «пользуется конечным набором средств, какие есть «под рукой»; одни и те же элементы выступают то в роли материала, то в роли инструмента и периодически подвергаются «калейдоскопической» ранжировке. Мифологическая логика широко оперирует двоичными оппозициями чувственных качеств. Эти контрасты все более семантизируются и идеологизируются, делаясь различными способами выражения фундаментальных оппозиций типа «жизнь» — «смерть» и т. п. Для мифа характерно иллюзорное преодоление подобных антиномий посредством последовательного нахождения мифологических медиаторов (героев и объектов), символически сочетающих признаки полюсов».
Спокойный, опытный шериф и горячий, молодой его помощник объезжают участок фронтира. Старика-охотника, попавшего в беду, они, вовремя подоспев, вызволяют из объятий злого медведя. Шериф движется дальше, помощник остается на ферме, чтобы помочь старику встать на ноги. У охотника — внучка. Много надо ли, чтобы вспыхнула любовь? К внучке пристает головорез-контрабандист. Пришлось заступиться, вызволить девушку, хоть и ценой тяжелых ран. Теперь внучка с дедом ухаживают за спасителем. Между тем шайка злодея подготовила налет на большой караван. Старый охотник — проводник каравана. Взятый в плен, он завел обидчиков — бандитов в ущелье, откуда нет выхода. Щелкают курки, мелькают ножи. Готовится расправа над старым и внучкой. Но помощник шерифа подоспел вовремя — его пуля останавливает руку, занесенную с ножом. Злодеи связаны. Молодые люди обняли друг друга.
Так, или примерно так, воспринимался должно быть, советский фильм «Джульбарс» (сцен. Г. Эль-Регистана и В. Шнейдерова, реж. В. Шнейдеров, 1936) американским зрителем, привыкшим к арсеналу выразительных средств вестерна. Действительно, многое в фильме выдает прямую оглядку на этот жанр — характерные приемы построения интриги, способы характеристики, воссоздания атмосферы. «Шпионский» отросток сюжета, собственно, уточняет связь злодея Абдулло с зарубежным центром непроясненного спектра (то ли эмигранты-контрреволюционеры, то ли. ведомство соседней страны по засылке диверсантов на нашу территорию, или и то и другое разом). Посыльным Абдулло оказывается пастух Керим, недовольный своим положением при новой власти, — раньше его отец владел несметными отарами. (В роли Керима снимался молодой еще в ту пору Андрей Файт, начав тем самым примечательное, почти полувековое шествие но нашим экранам в ролях шпионов и предателей).
Проследим дорогу Керима. Она начинается на самой высокой точке, в слепящем мареве горных вершин. Здесь светло, просторно, в кадре постоянно фигурирует небо, а нижние ракурсы съемки без труда выдают точку зрения повествователя, предлагаемую зрителям, — снизу вверх. Серия наплывов и двойных экспозиций изображает путь Керима — сплошные кручи, утесы, буераки, узкие тропки под нависшими скалами. И вот — как бы с высоты птичьего полета — распахнулась долина с шоссейной дорогой, по которой пылит грузовик. И дорога после горных круч, и грузовик после оседланных лошадей становятся знаком — Керим «там».
В следующем эпизоде возникает старый азиатский городок — снято сверху, в кадре бесконечные минареты, пыльная кривая улочка, острые углы строений, тупики, завалинки. Нищий, которому Керим подает монету-пароль, ведет его под своды мечети и еще ниже, в подвал, в сумрак, в тесную, душную тьму.
Позже сам Абдулло явится сюда, в зарубежный центр контрабандистов и диверсантов, чтобы объявить день выхода богатого каравана и подобрать боевую группу. Злодею выпадет тот же путь — от просторного, вольного, белого мира вершин к черным, смрадным катакомбам, где даже костер не разгонит тьму (так что, не разобравшись, сообщники поначалу накинут на Абдулло мешок, приняв его за чужого).
Мифолог с удивлением отметит здесь, что оппозиция «хаос» — «культура» в данном сюжете поменялись местами. Но таков уж этот сюжет. И этим тоже он подобен вестерну — там наступление буржуазной цивилизации, банков, армии, полиции, железных дорог неизменно рассматривалось повествователем как враждебное доброму, старому миру патриархальной самодеятельности в глубине цветущих прерий. Вестерн, правда, знает и противоположную опасность — нецивилизованных индейцев. Но примечательно, что они совсем не воспринимаются на экране, как беспорядочная толпа. Напротив, воинственная и грозная эта сила живет по строгим законам — «костер войны», как и «трубка мира», для нее равны основополагающим декретам. А поразительное владение луком, мастерство верховой езды, смелость, презрение к смерти, боли, выносливость, изобретательность в рукопашной? Нет, перед нами не антицивилизация, а другая цивилизация, еще патриархальнее, но в чем-то лучше приспособленная к боевой, опасной жизни в прериях.
Сюжетное своеобразие «Джульбарса» в том-то и состоит, что он рассказывает о пасторальном, совершенно счастливом и безмятежном житье людей природы, которым вовсе не о чем было бы тужить, если бы не происки врага из-за кордона. Скромный фильм, имеющий и сегодня неизменный успех у детской аудитории, стал своего рода провозвестником — в нем проглядывали типологические черты драматургии последующих довоенных и послевоенных фильмов.
Романтический взгляд, отбрасывающий бытовые подробности, видит жизнь высокогорного селенья совсем не так, как, скажем, тридцать лет спустя ее покажет режиссер В. Мотыль в фильме «Дети Памира».
Взгляд режиссера В. Шнейдерова ухватывает в кадре только крупные детали, без полутонов, лишь белого и черного цвета. Жизнь старика и внучки показана лирически-романтической стороной, со знаком плюс. Камни и скалы, окружающие белоснежные вершины и альпийские луга, становятся полосой отчуждения, охраняющей эту райскую идиллию. А серп дороги (первая вертикальная полоса во всех кадрах) и тем более грузовик, грохочущий по ней, становятся носителями противоположного, минусового смысла.
Надо ли удивляться, что пограничная застава займет срединное положение между этими мирами, между слепящим светом вершин, зеленью горных лугов и темными дырами пещер-подземелий, пыльными, истоптанными, кривыми улочками большого, густонаселенного города?
Расчерченная, геометрически правильная площадка. Крашенные белым аккуратные глинобитные бараки. Вокруг — горы, но вершины их срезаны верхней кромкой кадра.
Мир света, пейзанской Аркадии, чистых, безгрешных чувств защищен от мира тьмы, грязных побуждений, животных, инстинктов, сатанинской кровожадности, адской бессмысленной мстительности — эту мысль несет не только сюжет фильма, но и сам вертикальный принцип пространственной локализации сюжетных миров.
Примечательно, что позже, в эпизоде нападения на караван, диверсанты появляются из пещеры. На лошадях, но все же из пещеры, громадной горной дыры. Из близкой им тьмы и сырости. Может быть, они так, под землей, и добрались из вражеского разведцентра?
Наше внимание на нижеследующих страницах должно привлечь не собственно явление расширяющегося семантического поля, придающего предметам и их связям иной, не обиходный, не каждодневный характер. Такое расширение — не есть, конечно, исключительное свойство приключенческих структур, и даже не есть свойство только искусства. Оно — свойство всего человеческого мышления, то сужающего значение данной вещи до наименьшего интервала ее «фотографического» тождества самой себе, то расширяющего до предела, делающего ее псевдонимом вселенских космических начал.
Нет, нас должно заинтересовать своеобразное использование этого явления, что характерно именно для приключенческих структур: они тоже, как и сказка, оперируют остатками архаических мифов, тоже, как и сказка, семантизируют контрасты, придают объектам, героям, чувственным качествам и самой пространственной локализации мира характер извечных полярных оппозиций.
Возвращаясь к «Джульбарсу», заметим, что ни в каком жанре последующей поры не находишь столько явственных следов данной тройной космогонии, как в истории разведчика.
Иногда, впрочем, нас знакомят только с двумя мирами из трех. Специально не упомянуто, кто послал нашего разведчика и ждет его сообщений. Или, гораздо чаще, неизвестно, кто хозяин вражеского агента ... Но и в этом случае, восстанавливая симметрию по тому, что отразилось в сюжете, видишь все же, что мир для художника определенно троичен. То, чему становимся свидетелями мы, в нашем каждодневном «срединном» существовании, получает и свой истинный смысл как противоборство «верха» и «низа», того, что нас охраняет, опекает, бережет, с тем, что старается обмануть, провести, опорочить, втоптать в грязь. Мы в нашем мире малосведущи, посвящены не во все тонкости, не в силах подняться над обыденной точкой зрения, не знаем ни истинных возможностей своих, ни собственных слабостей. Они, те, кто за нас, и те, кто против, в силу своей посвященности имеют иной кругозор, иное представление о происходящем. Рядом с нами, нормальными людьми, они, обитатели иных миров, заслуженно выглядят титанами.
Уже в «Подвиге разведчика» непроизвольно отразилась вертикальная ориентация трех семантических миров.
«Как разведчик разведчику скажу вам: мне нравится ваше хладнокровие. Понимаете, что проиграли, и готовы платить», — так говорит противник майора Федотова, опытный, опасный враг, исхитрившийся бежать из Москвы после ареста. Полушутливо, полусерьезно Федотов принимает эту манеру разговора посвященного с посвященным. Тот удивился, откуда Федотов знает его имя. «Как разведчик разведчику скажу вам — вы болван, Штюбинг!» — парирует Федотов. И еще уничижительнее: «Какой профессионал задал бы этот вопрос?».Это их вторая встреча. Предыдущая случилась в Москве в кабинете начальника Федотова, генерала разведки. Эти высокие сферы были не по нутру Штюбингу: растерянный и жалкий, он выкладывал все, что имел за душой, робея и тушуясь под прямым взглядом допрашивающего, как посланец тьмы, трепещущий перед силой креста. «Сферы» оказались и в самом деле высокими: позже, оставшись наедине с Федотовым, начальник погасит свет, поднимет маскировочную штору на окне, и мы увидим, что этаж довольно высок. В чернильной тьме непроглядного неба будут чиркать лучи прожекторов. Следующий эпизод начнется с фигуры Федотова в самолете. Умом мы понимаем, что ему пришлось спуститься из кабинета начальника на лифте, долго ехать на аэродром и только потом подняться в небо на самолете. Но стилистический ключ повествования не требует подробностей и, пожалуй, исключает их. Уровень «высоких сфер» и уровень летящего самолета даны как самые высокие точки в физическом пространстве этого художественного мира.
Следующий ярус — улицы городка в Пруссии, затем гостиница, контора в Виннице, парикмахерская, явочные квартиры ...
Тут наши встречаются с врагами, на нашей земле, которая пока еще под их властью.
А будет и специфически «их» мир, куда нет входа нашему-человеку, если только он не выдает себя за «ихнего». Это — дворец Кюна, это палаческие застенки Руммельсбурга, главного мучителя и злодея, там царит полумрак, душный воздух, ни единого лучика с воли, с декоративным, уложенным цветными стеклышками окном, с тяжелыми сводчатыми потолками наподобие облагороженной пещеры.
Впрямую отдает преисподней мир «Эксперимента доктора Абста» (сцен. Н. Насибова, реж. А. Тимонишин, 1968). Помните? Советский офицер попал в некий подземный грот, где обитали самые настоящие сумасшедшие под присмотром психиатра Абста, которого тоже, по зрелому размышлению, надо бы признать безумным. Поскольку к этой тайной базе фашистов можно подобраться только на подводной лодке, лучше называть ее подземно-подводной. Серые однообразные камни нависают в каждом кадре. Пещера пещерой, но, может быть, за время пребывания здесь доктор Абст хоть в каком-то углу смог соорудить кирпичную стену, деревянный настил, цементированную цитадельку с окнами? Окнами — куда?
Серо-черные своды, полный мрак, когда гаснет электричество, вода в двух шагах от жилища, под огромным куполом, без дневного света, в лучах прожекторов. И волна здесь — не настоящая, тихая, мягкая... Гармония? Как бы не так! Чистый хаос. Потивоестественный порядок человеконенавистнических стихий. Мы увидим еще, как взбунтуются пациенты доктора Абста, как начнут они кромсать все и вся, как взорвется и распадется страшная база, мечтавшая по-своему, «снизу», влиять на ход вещей в «среднем» мире, т. е. на общеевропейском фронте борьбы с фашизмом.
В «Комитете 19-ти» (сцен. С. Михалкова, А. Шлепянова, реж. С. Кулиш, 1972), как мы помним, первопричиной всех зол, жуткой болезни и еще более жуткой опасности для мира оказывается Биологический центр, таинственная научная организация где-то в самом центре Африки, получающая помощь из различных стран. Предполагается, что Биоцентр работает на благо человечества, и прежде всего па благо африканцев. Герои фильма, комиссия Комитета девятнадцати, выяснит, что на самом деле это фашистский концлагерь. Здесь время как будто остановилось: репетируют старые немецкие марши, мелодии Баха звучат у могил с громкими именами нацистских лидеров. Больше того: обитатели концлагеря — ученые-биологи вынуждены под угрозой уничтожения выводить болезнетворные микробы повышенной активности. Озеру неподалеку уготована довольно гнусная роль: здесь зимуют птицы из разных стран подбросив им тот или иной микроб, можно без больших хлопот запрограммировать эпидемию в стране № 1, № 2, № 3...
Но и этого мало. Мало враждебности ко всему роду человеческому, мало надежд на перестройку мира (или, по крайней мере, африканского континента) по памятным гитлеровским заветам. Мало, мало! Советскому человеку, главе комиссии, показывают песочные часы. Пересыпается в них не песок, а прах профессора Олдинга, биолога всемирной известности. «В 1961 году профессор отказался работать, на нас», — торжественно разъясняют хозяева.
Противоположная крайность истории разведчика — приглушение, ослабление дополнительной семантики «миров». В «Мертвом сезоне», например, «мир» театра Савушкина, естественно, отличается от «мира» высоких кабинетов, тихих просмотровых залов, где специально собранные свидетели знакомятся со старой пленкой о действии газа «эр-эйч». И уж тем более он отличается от «мира» западно-европейского государства, где Савушкин будет помогать Ладейникову. Но ни небесные, ни адские обертона не приходят на помощь. Другое — вот и все.
Нет тройственной космогонии в «Судьбе резидента» и в «Ошибке резидента». Здесь пространство прагматично, деловито, не признает никакой символизации. Одного из вражеских агентов ловят с поличным на кладбище при передаче кинопленки. И что же — кладбище остается всего лишь местом встречи, каким могли быть парк, трамвайная остановка, музей или библиотека. Шпионские офисы там, кабинеты генералов здесь, гараж, столовка, квартира по найму — все это дано в будничном, привычном своем значении, без потенциала добавочного, поэтического смысла.
В «Семнадцати мгновениях весны» (по роману Ю. Семенова, 1973) лишь кое-где можно разглядеть дополнительную семантику пространства, да и то не в самой откровенной форме.
Свастика, ритуалы костров и факельщиков, черепа-эмблемы ... Нацизм не прочь, был пококетничать жутковатой черной символикой, только бы скрылась от внимательных глаз обыденная, филистерская сущность взбесившегося лавочника.
Фон происходящего скромен до предела, почти что до театральных сукон. Манера актерской игры — твердая, определенная, развенчивающая всякий пафос, риторику. На свет божий вытаскивается то, что за — за фуражками и мундирами, за массивными дверями и утренними караулами, за звоном фраз о тысячелетнем рейхе и конвейером смертных приговоров.
Что же там — за?
Там — люди. Искалеченные бесчеловечным порядком. Вывернутые им наизнанку. Перестроившие привычные полюса души, так что зло уже видится в добре, и наоборот.
И все-таки люди, а не манекены или чудовища из преисподней.
Здесь, в этих стенах, обитают и свои мастера заплечных дел, и профессионалы-садисты, ухватистые и алчные мясники. Краешком глаза мы успели заметить их на аэродроме — они поджидали опального генерала Вольфа. Только повествование не о них. Открытая патология не интересует режиссера, воспитанницу герасимовской школы.
Есть особые художественные структуры, когда внутри острофабульной, полубульварной интриги развертывается иное, совсем не приключенческое действие, когда — системой лейтмотивов, намеков или прямыми монологами, беседами, общением сознаний — перед читателем развертывается некая единая тема, требующая понимания и решения.
Тема эта, вертикально пронизывающая 12-серийное повествование, — самочувствие человека внутри чужих поступков, внутри навязанного ему поведения. Даже загадочная фигура провокатора (убитый на первых страницах романа, он в фильме занял куда больше места) легко и естественно вписывается в контекст этой сквозной драматургии. С подсказки сценариста Л. Дуров играет не доносчика, не осведомителя, не презренный унылый винтик машины гестаповского сыска. Как раз наоборот: он вдохновенный художник своего дела. Не деньги он ценит, не похвалу шефа СД а возможность — хоть ненадолго — покрасоваться в облике мятежника, смущая окружающих подстрекательскими речами. Расплачиваться за подлый этот героизм приходится кровью, так ведь не своей же — пусть ее запишут на счет тех, кто создал этот вымороченный безнравственный порядок, когда человек не может принадлежать себе.
А Шелленберг, человек «сверху», просвещенный интеллигент, примкнувший к заправилам «нового порядка» в наивной надежде быть спецом, техником-профессионалом! Он-то уже наверняка вне силового поля общей системы, вне ее нивелирующего гнета? Как бы не так! О. Табаков возникает в этом образе молодым, артистичным, интеллектуально независимым, склонным к иронии и самоиронии... Но в какой-то момент, в растерянно-затянувшейся паузе, вдруг полыхнет на вас то, что в глубине, — невозможность быть собой даже с глазу на глаз с верным собеседником, чувство растекающихся из-под рук всех креп характера, покорное, унылое следование за событиями с наигранным видом их руководителя.
Кульминации эта тема достигает в фигуре Мюллера, самой живой и многомерной. Это человек, переросший себя и следящий за собой с некоторой мудрой дистанции. Старый служака, довоенный профессионал уголовного сыска, он толстоват, неуклюж, громоздок в этом мире повышенной гибкости. Ему недостает легкости сегодняшних молодых, элегантно отрепетировавших жест руки с коротким, привычным «хайль».
Живодер, сыскная машина, Мюллер иногда позволяет себе быть сердечным. Лишенный, казалось бы, нервов, он излучает по временам безудержную сентиментальную грусть. Аккуратист, бумажная душа, он не прочь поюродствовать, прикинуться дурачком или удивить собеседника широтой взгляда, парадоксальным афоризмом.
Насколько Мюллер вспоен игровым, карнавальным началом картины, настолько Исаев-Штирлиц представительствует от лица хроники, документа, протокола. Большое место в актерской работе Тихонова заняли снижающие, будничные подробности. Он очень устал, не молодой уже Максим Максимович, он издерган, не вылезая который год из ненавистной шкуры службиста СД. Механика шифров и явок, похоже, так и не стала его второй натурой, она дается лишь при изнуряющей степени внимания.
Вот почему «верхним» миром, в нарушение привычных ожиданий, стали здесь не сцены в Центре — они немногочисленны, а сцены вне налаженного порядка — мгновения полной тишины по дороге обратно в Берлин, когда можно присесть у обочины и послушать птичек, посмотреть безмятежно в безоблачное синее небо.
Все остальное — это и есть жизнь «внизу», в притворстве, в маске, с запрограммированными движениями мышц лица, рук, ног. Он, Штирлиц, полковник СД, существует в одном мире с Гиммлером или Борманом, в одних и тех же коридорах, только на разных этажах. А все этажи, все кабинеты похожи здесь друг на друга — один посветлее, другой сумрачнее, с положенным портретом на стене, чуть поменьше. Никаких бункеров, подземелий, горбатых сводчатых потолков. И когда, в одном эпизоде, Мюллер ведет Штирлица в «низ низа», в самый нижний круг этого ада, там оказывается светлая комната за решеткой, с больничной тахтой, с бестеневыми электрическими лампами, с иголочками и ножичками в стороне, на стеклянных полках.
Полюс холода в этом фильме — не берлога князя тьмы, а место, где насилие над человеком становится открытым, квалифицированным, с использованием завоеваний науки.
Вспомним то, что раньше говорилось о сказке: она пользуется мифологической семантикой, но без веры в мифы, в отрыве от них. Так возникает поэтическая условность.
В сегодняшних приключенческих повествованиях, в том числе и в истории разведчиков, действующих на территории врага, происходит как бы обратный процесс — обиходные реалии приходят на помощь повествователю, чтобы ненароком — вполне условно — заиграть прежними, давними мифологемами.
Демин В.П.
Фильм о разведчике: семантика пространства //
Приключенческий фильм: пути и поиски / Отв. ред. А.С.Трошин. М.: ВНИИК, 1980. С.59-81.
Примечания:
Приключения на экране. Вып. 2. М.: Искусство, 1976. С.46.
Колосов С. Документальность легенды. М.: Искусство, 1977,
С. 93-94, С. 96—97.
Мелетинский Е. Миф и историческая поэтика фольклора // Фольклор. Поэтическая система. М.: Наука, 1977, С. 28., С.24