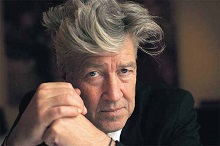Кинг Видор, американский режиссер, обративший, на себя внимание фильмом «Большой парад» (1925), в 1928 году закрепил успех картиной «Толпа». Поставим себя на место кинозрителя конца 20-х годов — что он был вправе ожидать от такого названия?
Если мы отсчитаем от этой даты — 1928 год — лет пятнадцать к началу истории кино, то застанем такую картину. Между кинематографом и старыми искусствами в разгаре борьба за передел культуры. Театр уступал позиции постепенно. В первую очередь и без боя кинематографу отошло искусство массовки. Сегодняшний зритель часто недоумевает: почему в старых фильмах столько скучных общих планов — неужели так трудно было додуматься и поставить аппарат поближе? Мы забываем: прежде чем удивить мир крупным планом, кинематограф потряс публику зрелищем еще более непривычным — емкостью общего плана. Бой быков в кино, писал Ю. Олеша,похож на половину арбуза с кишением косточек-людей. Успех итальянских «пеплумов» 10-х годов измерялся числом занятых в фильме статистов. Для «Спартака», писал тогда восхищенный А. Кугель, издатель журнала «Театр и искусство», собрали две тысячи статистов. Для «Клеопатры» построили несколько десятков египетских и римских триарем: «В сравнении с этими колоссальными постановками что значит какая-нибудь постановка «Юлия Цезаря» в Художественном театре, от которой только и осталось в памяти, что-де улицы и дома в Риме были хороши, а люди никуда не годились... Так не только поставить, но и вымуштровать толпу для театра нельзя, как можно сделать для съемки»'.
В 20-е годы массовка в кино стала приметой режиссерского стиля. У Абеля Ганса (фильм «Наполеон» ) толпа в Конвенте — не беспорядочное кишение, движению людского массива здесь придан облик моря: толпа то плавно бушует, то тихо волнуется. У Эйзенштейна в «Октябре», если замедлить движение фильма и понаблюдать за пленкой в окошке монтажного стола, можно заметить, как расстреливаемая с крыш демонстрация не разбегается, а движется по спирали, вихреобразно. 11 000 бритоголовых, как у Замятина, статистов из «Метрополиса» Фрица Ланга изображают толпу, стилизованную под механизм. Но при всем разнообразии кинетических формул образ толпы в европейском кинематографе послушен традиции, идущей от романтиков: толпа (или «масса», если фильм — апология большинства) безлика.
В определенном смысле можно утверждать, что «Толпа» Видора открыла полемику с этой концепцией. Фильм — не столько о толпе, сколько о человеке толпы. У. Битон, обозреватель тех лет, писал: «Режиссер простер руку над толпой, и она легла на плечо малой частичке этой толпы, и эту частицу он превратил в фильм». «Рука, опустившаяся на плечо в толпе» — дает ли Видор повод для такой метафоры или это образец критического пустословия? Картина действительно начинается и заканчивается выразительным кинематографическим «жестом» — движением камеры, причем настолько смелым и по тем временам новым, что оно подробно описывалось многими. Вот отрывок из московской критической статьи 1928 года: «Камера ползет по стене небоскреба, выделяет одно из тысячи окон, открывает огромный зал с сотнями столов, за которыми сотни молодых людей выписывают что-то из одинаковых книг». На этом камера не прекращала движения. Кинг Видор в своих мемуарах подробно описал этот ныне хрестоматийный проезд: «Затем камера проникала в окно и, опускаясь, приближалась к одному из столов и к одному из клерков — нашему «герою», сосредоточенному на своих повседневных занятиях. Этот маневр камеры был задуман, чтобы проиллюстрировать нашу тему — человека из толпы. Вот как мы справились с этой технически сложной задачей: камера поднималась вдоль стены небоскреба, и, когда на экране видны одни только окна, незаметным для зрителя наплывом мы переходили к миниатюрному макету этой стены, распластанному по полу, после чего камера горизонтально скользила вдоль окон одного этажа. В нужном нам окне мы установили фотографию, отпечатанную с заранее снятого киноматериала. Камера надвигалась на окно, затем плавным наплывом фотография превращалась в «живую» сцену — интерьер огромной конторы... Чтобы продолжить наезд на нашего героя, над съемочной площадкой был натянут трос с платформой, на котором подвесили оператора».
Это — начало картины, а финал ее как бы оппонирует прологу — мы видим погружение героя обратно в толпу. Герой Джон и его жена Мэри — в зрительном зале мюзик-холла, камера отъезжает, и два знакомых лица тонут во множестве веселящихся лиц. Так Видор выводит героя из-под окуляра, и это — не просто фигура киностилистики. «Толпа» — фильм об одном из многих. Нам говорят, что все случившееся с героем типично. Заявленная таким образом мысль Видора мало кого была способна расположить к фильму. Но он завладевает нами полновластно. Бесперспективный, казалось бы, детерминизм художественного задания оборачивается такой свободой, глотнуть которую кинозрителю удастся, может быть, только тридцать лет спустя, в лучших фильмах французской «новой волны».
Режиссер разрушает стереотипы «типичности» : человек в толпе, по Видору, располагает куда большей свободой поведения, чем герой, возвысившийся над толпой. Режиссер доказывает — страшен лишь тот детерминизм, который кроется в наших представлениях о жизни, а не тот, что заложен в ней самой. Стандартные кинематографические сюжетные положения (а именно они и создают инерцию зрительского мышления) получают у Видора непредсказуемое, чуть ли не импровизационное решение, и в результате зритель обнаруживает, что попался на стандартном мышлении: ожидая штампа и не дождавшись его, он остается в дураках. Американский критик Дж. Селдес под свежим впечатлением от «Толпы» писал о любовной (а вскоре и семейной) линии фильма: «В ней нет сюжета: отсутствие лирических деталей в ее трактовке совсем не похоже на кино. Но победа господина Видора в том, что как раз отсутствие лиризма и делает эти отношения нежными и прекрасными. В гостях у родителей жены, в ожидании рождественского ужина герой ненадолго выходит одолжить у знакомых бутылку джина; но, выпив, возвращается, когда все ушли, а жена уже в постели. Лирическая кинотрадиция требует, чтобы жена устроила сцену; а господин Видор показывает нам сочувственную улыбку жены, мимолетное раскаяние мужа, и сцена оканчивается легкой перебранкой по поводу того, как правильно открывать подаренный им зонтик».
Действие фильма движется от нарушения к нарушению предвзятых суждений о том, как устроена жизнь. Фильм начинается с пролога о мальчике по имени Джон, отец которого прочил сыну большое будущее. Отец умирает. Следующий кадр — знаменитый наезд: Джон, уже юноша (актер Джеймс Мюррей), один из тысячи служащих страховой компании. Здесь в свои права вступает тема инициации, то есть вхождения в жизнь и переоценки заведомых о ней представлений (кстати, инициация — сюжет, который по праву считается одним из самых важных для американской культуры). Больше всего достается от Видора романтическому представлению о безликости толпы — его ходульность становится ясной и герою, и зрителю. Любое событие в жизни героя показано как в смысловом отношении стереоскопичное — оно и уникальное и серийное одновременно.
Первый поцелуй — в Луна-парке, в толпе, а не в уединении, как тому учило кино 20-х годов. Среди множества кроваток новорожденных, уходящих в бесконечность кадра, теряется кроватка, в которой — только что появившаяся на свет дочь героя: опять же уникальность лирического чувства погашается смысловым «общим планом». Видор впоследствии рассказывал, к каким ухищрениям ему пришлось прибегнуть, чтобы в эпизоде роддома добиться изобразительной метафоры, сходной по смыслу с той, что мы видели в начальных кадрах: «В сцене, где муж нервно ходит по коридору роддома, мы хотели создать ощущение, что в этот момент все мужья переживают то же самое. Нам потребовался длинный, уводящий почти в бесконечность коридор больницы... Наш художник сконструировал декорацию в усиленно сходящейся перспективе, причем, каждая следующая дверь в этом коридоре была меньше предыдущей. Мы даже собирались поставить у каждой миниатюрной двери по карлику-мужу, но потом решили — пусть толпа нервничающих мужей держится ближе к первому плану». Итог этого режиссерского замысла: герой остается самим собой, пока прислушивается к ритму всеобщего, к шуму толпы. Гибель дочери прерывает эту связь — обезумев от горя, отец умоляет толпу умолкнуть, водителей приглушить моторы, прохожих шагать тише. В немом фильме эти кадры потрясают.
Затем семейная история входит в фазу разлада. Герой теряет работу, жена (актриса Элинор Бордмен) готова уйти от него. Следует предфинальный эпизод, смелостью решения шокировавший даже дружелюбных рецензентов.
Последняя попытка примирения. Почти пустая комната, в углу — стол с патефоном. Мэри, уже не живущая с Джоном, зашла за последними вещами. Джон ждет ее с цветами (в этот день герой нашел работу) и билетами в варьете. Неловкая пауза. Джон ставит пластинку — «There is everything nice about you» — и герои начинают танцевать. «Что хотел этим сказать господин Видор? — возмутился кинокритик.— Неужели людям для выражения их глубоких чувств так уж необходимо прибегать к стандартному механическому аргументу?». Критик прав: музыкальная машина, патефон — воплощение духа толпы. Но любовь нашей пары может существовать только в такой среде. Чувство толпы возвращается к герою. Танцующие смеются. Наплыв — они продолжают смеяться, но уже среди зрителей варьете.
Отъезд — их лица теряются в зале.
Юрий Цивьян
«Искусство кино» № 3, 1988 год