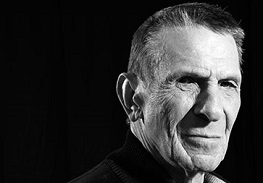Его известность началась в конце 60-х, с выходом на экран «Анны Карениной». Картина не была дебютом Леонида Калашникова. Уже лет десять он работал с камерой — на студиях в Киргизии, Грузии, наконец, в Москве. Но оператором-постановщиком он стал незадолго до того, как режиссер А.Зархи пригласил его в съемочную группу «Анны Карениной».
В картине этой и зрителей и критику поразил вещный мир: антураж, в котором живут герой,— ковры, шпалеры, паркет, столовое серебро, дымчатые бокалы, изобилие цветов; костюмы и аксессуары персонажей — красные и белые мундиры, пышные платья, кружевные зонтики, гордо поблескивающие ордена. Вещный мир был снят осязаемо, с тщательной проработкой фактур, с каким-то почтительным любованием. В кадрах Калашникова предметы зазвучали многоголосым хором, нежные, бархатистые тона сплетались здесь с мощными, громогласными аккордами.
Когда оценивается работа оператора, чаще говорят о том, что видно в кадре, а не о самом кадре, не о характеристике почерка художника, кадр снимавшего. В рецензиях того времени много рассуждений о вещности картины, но не о почерке Калашникова.
«Оптическое письмо» каждого хорошего, ищущего оператора узнаваемо, отлично от других. Оно может быть стремительно-резким, динамичным, может быть умиротворенно-плавным. В «Анне Карениной» Калашников стремился быть верным Толстому. Кадры фильма казались пространными, несколько тягучими и в то же время — таящими в себе подспудную нервность, глубину и неоднозначность мысли, обобщения. По ритмике они были подобны сложным, прихотливо изламывающимся толстовским периодам. Нервность порой взрывалась, переставала быть подспудной — например, в сцене скачек, когда падает лошадь Вронского, или в эпизоде бала. Скачки монтировались как бы синкопами. В лихорадочно сменяющих друг друга кадрах лошади мелькали, будто выпущенные катапультой,— само течение кинематографической речи точно передавало неукротимую напряженность бега. Бал давался в иной тональности и снят был иначе—через восприятие Кити. О ее состоянии у Толстого сказано: «весь бал, весь свет, все покрылось туманом...» Камера Калашникова превратилась здесь в чуткое, сопереживающее существо — многолюдное собрание показано как бы в тумане, не в фокусе, отчего проносящиеся в танце фигуры кажутся цветными пятнами. Один из критиков назвал сцену «симфонией переливов белого, черного, бледно-розового, золотистого».
Подобные сцены позволяют точнее и полнее реконструировать почерк Калашникова. Его камера будто не вглядывается, а вслушивается в происходящее — не просто снимает поверхность, оболочку вещей, но пытается ощутить глубинные, внутренние токи, пронизывающие внешний мир.
Сцены, подобные скачкам или балу, заставляли видеть в Калашникове приверженца операторской манеры, близкой Сергею Урусевскому. Суть совершенного Урусевским переворота состояла в «динамизации» камеры. Замечательный оператор превратил ее в своего рода действующее лицо—не названное по имени, невидимое, но предельно выразительное.
Камере Калашникова метания несвойственны. Все появившееся в кадре она снимает будто через фильтр. Он, этот фильтр, не материален, не стеклянен. Он «отлит» из настроений, эмоций—легких и просветленно-прозрачных. Из уважительного внимания к видимому. Из раздумчивости, светлой грусти и — лукавой иронии. Камера Калашникова не только сама тяготеет к степенности, но стремится успокоить, сдержать и самый подвижный элемент в кадре — свет.
Благодаря «чувственному фильтру» кадры, снятые им, как бы на полпути между сейчас происходящим и воспоминанием. В реальной жизни какая-нибудь сценка, даже полная движения, откладываясь в памяти, словно затихает, умиротворяется — приобретает завершенность, равновесие. «Фильтр», о котором речь, приглушая внутреннюю динамику в кадре, тоже заставляет происходящее притихать, уравновешиваться. А пристрастие оператора к глубоким темным тонам, ассоциирующимся со старой живописью, исподволь, ненавязчиво побуждает нас видеть в показанных событиях не выхваченное из жизни, а приближающееся к тому, что отложилось в нашем эстетическом опыте, в нашей памяти.
Такое обращение к эстетическому опыту, и прежде всего припоминание старой живописи,— лейтмотив операторской работы Калашникова в картине «Сто дней после детства», поставленной режиссером С. Соловьевым. Это повесть о первой любви. Четырнадцатилетний Митя Лопухин, проводящий лето в пионерлагере «Лесной остров», покорен своей одноклассницей Леной Ерголиной и надеется завоевать ее сердце. Вспыхнувшую страсть мальчик начинает осознавать, когда с ним случается солнечный удар. И первое свое чувство ощущает — как солнечный удар.
Чувство это из века в век переживал и переживает каждый на земле. Благодаря ему перед каждым открывается мир высоких духовных порывов. Темы эти—извечности и духовности — переплетаются, отчетливо передаются и в изобразительном решении «Ста дней после детства».
Рецензенты находили в фильме реминисценции живописи Вермеера, Рембрандта, Ватто, Борисова-Мусатова. Это далеко не полный список. Великие художники творили, чтобы обогатить человеческую духовность. Камера вглядывается в старую усадьбу, где разместился пионерский лагерь, в пейзаж вокруг него не для того, чтоб детальнее и полнее представить место действия, но чтобы почувствовать, ощутить во всем этом параметры иной реальности—духовной, одухотворенной человеческим гением. Именно такая реальность нужна теперь главному герою, испытавшему «солнечный удар» первой любви, именно до нее Митя Лопухин должен дорасти.
Ограда парка, окружающего усадьбу, разрушилась. Только таинственно возвышаются среди молодой, буйной зелени два каменных столба от бывших здесь когда-то ворот. В нише одного из столбов, усевшись на корточки, Митя читает томик Лермонтова. Камера снимает обычного современного мальчишку, чуть смешного в своем напускном романтизме, и вместе с тем заставляет нас вспоминать о скульптуре, которая, может быть, когда-то помещалась тут. Благодаря тактично подсказанной ассоциации фигура мальчика вписывается для нас не в остатки старой архитектуры, но в извечность культуры, в духовную традицию.
Ассоциации вычитываются из того, что непосредственно видно в кадре. На видимое Калашников смотрит через свой «фильтр». Взгляд его элегичен, просветленно-грустен. В короткий период между детством и юностью все — и радости, и невзгоды, великие и малые открытия— переживается столь ярко, столь остро, столь непосредственно... Потом, с годами, яркость и острота приглушаются, а значит — как не пожалеть о «ста днях после детства», промелькнувших, унесшихся в даль времени?
И здесь, в этом фильме, Калашников остается верен своему излюбленному ритмическому рисунку. Элегичность, поначалу легкая, как дымка, мощным аккордом звучит в финале. В последнем эпизоде картины мальчики вместе с вожатым Сережей запускают воздушного змея. Эпизод пронзительно грустен. Грусть не сыграна актерами, не излучается предметами. Она прежде всего и главным образом — во взгляде камеры. Мальчики здесь словно замерли, ощутив на себе взгляд объектива, притихли. Краски кадра сгустились, стали насыщенными, будто пропитавшись грустью. А сам эпизод неуловимым, непонятным образом будто теряет свою реальность—как бы уходя, отлетая в область далекого, остающегося в самом сокровенном уголке души воспоминания.
...Заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Калашников снял более двадцати картин. Среди них такие известные, как «Красная палатка», «Последняя жертва», «Телохранитель», «Бешеные деньги». Однако экранизация чеховской «Степи», осуществленная С. Бондарчуком, потребовала от мастера, вероятно, особых усилий — в связи с тем значением, которое благодаря сюжетной и смысловой структуре повести отводилось изобразительному строю фильма. Ведь главный герой ее — сама степь. У Чехова она не просто равнина, покрытая рыжеющими от летнего солнца травами, она—нечто глобальное, первичное: земля, природа как таковая. Камера в картине была призвана «сыграть» за главного героя — не подменять, не замещать его собой, но сделать физически ощутимым,— чтобы в бесконечной равнине, в истомившихся от жары травах, в пологих холмах прочертился обобщенный, величественный абрис земли, природы. Как и в «Ста днях...» под непосредственно видимым, данным камера открывает здесь иную реальность.
Степь в фильме— и впрямь действующее лицо, поскольку кажется существом одушевленным: живет, дышит, преображается. Она то ясна и радостна под солнцем, то мрачна, когда тучи закрывают небо, то разнежена от полуденной жары, то свежа и чиста поутру. В одном из кадров происходит выплеск этой одушевленности— она ощущается непосредственно, неприкрыто. Камера долго снимает колеблемый ветром ковыль, и чудится нам, что это нервная дрожь пробегает по живому телу земли.
Снятое Калашниковым в 80-е годы многим отличается от его прежней манеры. Как это часто бывает, новое началось демонстративно, своего рода вызовом. Им оказалась поставленная Г. Панфиловым «Валентина».
Уже после фильма «Прошу слова» режиссер заявлял в интервью, что охладел к кинематографу «экспрессивно-изобразительному», который, по его словам, стремится «передать мир человеческих чувств и страстей не столько прямо, сколько опосредованно—через пластику кадра».
Одним качествам «операторского письма» Калашникова режиссерская программа была созвучна, от других заставила решительно отказаться. И в первую очередь от того, в чем он традиционно был силен,— от умения так снять кадр, чтобы в нем проглянуло нечто подспудное, затаенное — другая реальность.
Литературной первоосновой «Валентины» была пьеса А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». В пьесе строго соблюдены три классических единства—действия, места и времени. Сюжетные ее события происходят в течение одного дня и сосредоточены на небольшом пространстве. Эта сосредоточенность как бы передалась съемочному аппарату; более того — им еще и усилена. Камера намеренно, вызывающе неподвижна—снимает длинные, как будто нескончаемые куски, снимает с одной точки, общими планами. Самоограничение ее демонстративно, доведено до крайней степени, В «Вассе», следующей по времени картине Панфилова, которую тоже снимал Калашников, авторы до таких «крайностей» уже не доходят.
И все-таки позиция камеры в «Валентине» по-своему выразительна. Тут напрашивается определенное, психологически мотивированное оправдание ее режима работы. Так видит происходящее посторонний, или вернее—приезжий, для которого и люди и события в чужом городе новы, а мотивы их поступков пока неясны. И потому приезжий своим вмешательством боится что-нибудь испортить, внести сумятицу в происходящее. Он старательно вглядывается в события и фиксирует все на слайды, чтобы впоследствии на досуге разобраться в мотивах и пружинах поступков. Кадры «Валентины» подобны таким слайдам - сделанным для запоминания и последующего анализа.
В «Вассе» камера тоже как бы отстранена от происходящего -и наблюдает, фиксирует. Но цветовые решения здесь изысканы, выверены, эстетически выстроены. Такая эстетизация ощущается как шаг в сторону «экспрессивно-изобразительного» кино, от которого и режиссер и оператор стремились уйти в «Валентине». Однако, думается, шаг этот продиктован внутренней необходимостью—предопределен смысловой конструкцией фильма.
Колористическая изысканность резко диссонирует с бездушием членов семейства купчихи Железновой, и диссонанс этот еще острее заставляет ощущать вымороченность их чаяний и поступков.
После «Вассы» Калашников работал с Марленом Хуциевым, снимал «Послесловие». Оператор сумел сохранить многое из того, что было найдено им в «Валентине». Кадры напоминают здесь вереницу слайдов, зафиксированных для припоминания и анализа. К герою картины, человеку, что называется, современному, занятому, работающему над диссертацией, приезжал в гости тесть, старик жизнелюбец. Своим визитом он многое перевернул в мыслях и представлениях зятя. Теперь герой вспоминает этот визит, говорит прямо в камеру — как будто в телевизионной передаче, а эпизоды, перемежающие его речь,— это и аргументы к его мыслям и материал, позволяющий разобраться в том, что же действительно произошло. Кадры, решенные как воспоминания, созвучны тому, что Калашников делал раньше, связывают новую картину с прежними его работами.
Мастер остается верен себе...
«Советский экран» № 22, ноябрь 1984 года
Валентин Михалкович